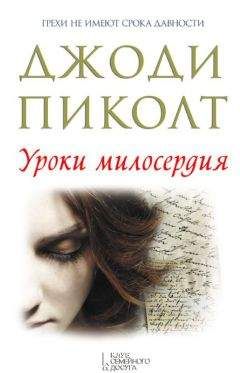Одинокий волк - Пиколт Джоди Линн
Мы лежали неподвижно, потому что могли нарушить снежный покров и спугнуть добычу. Даже несмотря на окружающих меня волков, я мерз, поэтому, чтобы не заснуть, принялся размышлять. Волки были гениями маскировки. Они умели определять направление ветра и знали, как замаскировать запах. Разве олень не руководствуется инстинктами? Неужели он не знает из опыта поколений, что если волк гонит тебя на такой скорости в таком составе, то впереди ждет засада, а не охота на открытой местности? Разве он не понимает по резкой смене ветра, что впереди его ожидает опасность?
Все эти мысли вылетели у меня из головы, когда альфа-самка начала есть снег. Молодой волк тут же последовал ее примеру, зарылся мордой в снег и стал его глотать. Молодая волчица подняла голову к ветке, на которой, как игрушка на рождественской елке, висела сосулька, отгрызла ее и принялась облизывать, словно леденец.
Я удивляюсь: зачем, черт побери, они это делают? За три дня, что мы находимся в этом подлеске, я такого ни разу не видел. Возможно, волкам нужно пошевелиться, потому что мы слишком долго пролежали без движения. А может, они просто захотели пить.
Но волки никогда не совершают ненужных поступков, а поскольку я жажды не испытывал, то и они, вероятно, тоже.
Я размышлял о том, что неужели лежание в глубоком снегу каким-то образом вызвало у волков обезвоживание, когда альфа-самка тихо клацнула на меня зубами и, сморщив морду, снова зарылась в снег. Я понял намек. Начал пригоршнями зачерпывать и есть снег, так, будто завтра уже не наступит.
И тут меня осенило: загоняемый зверь, бегущий на нас, может заметить засаду только по поднимающимся в воздух клубочкам пара от нашего дыхания. Но если держать на языке снег и лед – даже наше дыхание будет незаметно.
Через мгновение в подлесок вломился олень…
Каким-то образом альфа-самка узнала, что вот-вот придется атаковать. С другой стороны, какая еще у альфа-самки обязанность, если не сплотить семью, чтобы в самые ответственные моменты все ее члены делали то, что им сказано?
Возвращаясь домой, я ожидаю, что начнется Третья мировая война, и реальность меня не разочаровывает. Мама подбегает к машине Марии и начинает выдергивать меня с пассажирского сиденья, слишком поздно вспомнив, что у меня загипсовано плечо. Когда она хватает меня за руку, я морщусь, вижу, как Мария одними губами шепчет: «Удачи!» – и уносится прочь.
– Будешь сидеть дома, пока… пока тебе не стукнет девяносто лет! Ради всего святого, Кара, где ты была?
Этого я маме сказать не могу. Поэтому отвожу взгляд.
– Прости, – бормочу я. – После того, что сделал Эдвард… ну, ты понимаешь… мне пришлось оттуда бежать. Я больше не могла этого выносить, поэтому сбежала. За мной заехала Мария.
Внутри у мамы словно что-то щелкает, и она бросается меня обнимать. Да так сильно, что я не могу дышать.
– Ох, малышка, я так волновалась! Когда я вернулась, тебя уже не было. Охрана просто обыскалась… Я не знала, оставаться в больнице или ехать домой…
Открывается входная дверь, и на улицу выглядывают близнецы, напоминая мне о том: 1) почему моя мама все-таки оказалась здесь, а не в больнице; 2) почему я никогда не поверю, что стою́ первой в списке ее приоритетов.
– Элизабет, Джексон, возвращайтесь в дом, пока не заработали воспаление легких! – велит мама. Потом поворачивается ко мне. – Ты хотя бы понимаешь, как я испугалась? Я даже обратилась в полицию…
– Держу пари, так и было. Это значит, что меньше копов будут заниматься твоим Эдвардом.
Мама тут же отвешивает мне оплеуху – я даже не успеваю заметить, как она замахнулась. Она никогда в жизни меня не била, и мне кажется, что она изумлена не меньше моего. Я отскакиваю, прижимая руку к щеке.
– Ступай в свою комнату, Кара! – говорит мама дрожащим голосом.
Со слезами на глазах я убегаю в дом. На ступеньках сидят Элизабет и Джексон.
– Взяла тайм-аут? – спрашивает Джексон.
Я пристально смотрю на сводного брата.
– Помнишь, я говорила, что никакого чудовища у тебя в шкафу нет? Я врала.
Я переступаю через них, направляюсь к себе в комнату, громко хлопаю дверью и падаю на кровать лицом вниз.
Захлебываясь рыданиями, понимаю, что плачу не из-за пылающей щеки, – унижение ранит сильнее, чем сама пощечина. А у меня такое чувство, что я в целом мире осталась одна. Я не принадлежу этой семье; моя мать встала на сторону брата; отец витает там, куда мне не достучаться. Я совершенно – как ни ужасно это звучит! – одна, а это означает, что нельзя сидеть и ждать, пока кто-нибудь все уладит.
И дело не в том, что врачи попытаются еще раз отключить папин аппарат, даже если Эдвард и не будет настаивать. Дело в том, что если я не придумаю, как отстранить брата, он пойдет дальше и добьется того, чтобы его назначили законным опекуном отца, – я им стать не могу, потому что мне всего лишь семнадцать лет.
Но это совершенно не означает, что не стоит пытаться.
Я беру себя в руки, вытираю слезы бинтом повязки и сажусь, скрестив ноги. Тянусь за ноутбуком, включаю его впервые за неделю и игнорирую шестнадцать миллионов писем от Марии, в которых она интересуется, все ли у меня в порядке, – должно быть, она послала их, когда еще не знала, что я в больнице.
Печатаю несколько слов в поисковой строке и щелкаю на первую же фамилию, выскочившую на экране.
«Кейт Адамсон, полностью парализованная в 1995 году в результате двойного инсульта в стволе головного мозга, была не способна даже моргать. Медперсонал больницы на восемь дней вытащил из Кейт искусственный пищевод, но позже, после вмешательства мужа, вновь подключил ее к питательной трубке. Сегодня она практически здорова – левая часть тела остается частично парализованной, но женщина в здравом уме и отвечает на вопросы».
Щелкаю по следующей ссылке.
«Пострадавший в автомобильной аварии, находящийся в вегетативном состоянии в течение 23 лет Ром Хубен на самом деле все это время пребывал в сознании, только не мог общаться. Врачи первоначально использовали шкалу комы Глазго, чтобы добиться реакции его глаз, голоса, моторных функций, и поставили диагноз «неизлечим». Но в 2006 году были изобретены новые томографы, которые показали, что его мозг полностью функционирует. Сейчас Ром Хубен общается посредством компьютера. «Достижения в области медицины догнали его», – говорит его лечащий врач, доктор Лорей, который уверен, что многим больным поставили неправильный диагноз «вегетативное состояние».
И еще.
«Кэрри Кунс, 86-летняя старушка из Нью-Йорка, целый год пролежала в коме. Судья удовлетворил просьбу семьи о том, чтобы вынуть искусственный пищевод. Однако она неожиданно пришла в сознание, стала есть сама и беседовать с окружающими. Ее случай поднимает вопрос о том, насколько точен диагноз «необратимые изменения», и с юридической точки зрения возникает вопрос: когда следует прекращать искусственное поддержание жизни?»
Я делаю закладки на этих страницах. Сделаю на компьютере презентацию, вернусь в контору к Дэнни Бойлу и докажу, что поступок Эдварда ничем не отличается от попытки приставить к голове отца пистолет.
Звонит сотовый, который включен в розетку и весело заряжается. Я тянусь за ним, решив, что звонит Мария, чтобы узнать, выжила ли я после мамочкиного разноса. На экране высвечивается незнакомый номер.
– Пожалуйста, не вешайте трубку, соединяю с окружным прокурором, – звучит голос Паулы, и секунду спустя на проводе уже Дэнни Бойл.
– Ты на самом деле этого хочешь? – интересуется он.
Я вспоминаю несчастных Кейт Адамсон и Рома Хубена с Кэрри Кунс.
– Да, – отвечаю я.
– Завтра в Плимуте заседание суда присяжных. Я хочу, чтобы ты явилась в суд и я мог вызвать тебя в качестве свидетеля.