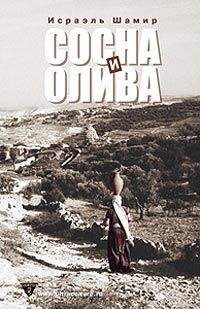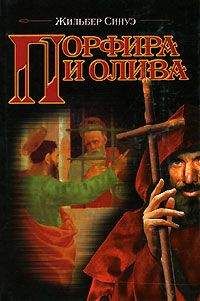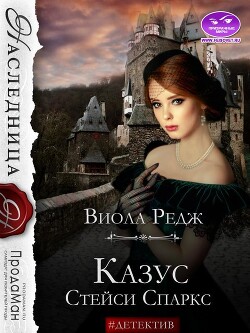Олива Денаро - Ардоне Виола
– Ну, вот наконец и ты, – незнакомка раскидывает руки, словно сто лет меня не видела и ужасно соскучилась, обнимает за плечи, притягивает к себе. Почувствовав, как холодеют ноги, я задерживаю дыхание: с некоторых пор мне совсем не нравится, когда меня зажимают. Мышцы деревенеют, но женщина сразу понимает это и ослабляет хватку, потом чуть отступает назад и, оглядев меня с ног до головы, треплет по щеке. – Антонино рассказывал о тебе с таким участием, что, кажется, я давным-давно с тобой знакома, – говорит она, как будто просит прощения, и улыбается, обнажив крупные белые зубы. – А вот ты, наверное, ничего обо мне не знаешь. Меня зовут Маддалена Крискуоло, я состою в Союзе итальянских женщин.
Ну и что я говорила синьорине Розарии? Женщины в единственном числе просто не существует, они так или иначе всегда должны держаться вместе!
– Вы адвокат? – спрашиваю я испуганно.
– Я? Нет, – Маддалена снова улыбается и косится на Кало: должно быть, считала меня умнее. – Я боец.
Я смущаюсь:
– И что это значит? Вы в армии служите?
– Боец – это тот, кто активно участвует в улучшении жизни каждого человека, – объясняет она мне, как ребёнку. – А впереди у нас ещё много битв, – и, обернувшись к моему отцу, который задумчиво водит пальцем по столешнице, добавляет: – За закон о разводе, об абортах, против насилия над женщинами...
При словах «развод» и «аборт» отец, нахмурившись, скрещивает руки на груди.
– Насколько я понимаю, мы должны были поговорить с адвокатом, – вставляю я.
– Сабелла вот-вот подъедет, – заверяет нас Маддалена. Отец, нервно мотнув головой, принимается постукивать по столу костяшками пальцев. – Мне просто хотелось иметь в запасе несколько минут, чтобы познакомиться и перекинуться с тобой, Олива, парой слов, как женщина с женщиной.
Что она хочет знать? О чём нам вообще говорить? Я вдруг чувствую невероятную усталость: устали ноги, спина, плечи, даже мысли. Под тяжестью услышанного с тех пор, как всё случилось, плоть словно скручивается, облепив скелет. Похоже, каждый встречный знает больше моего, и у каждого в кармане готов ответ: нет чтобы хоть раз спросить, каково мне после всего этого! Я хватаюсь за спинку отцовского стула, но он уже снова водит пальцем по столешнице.
– Ступайте наверх, – предлагает Лилиана. – там вас никто не побеспокоит.
Мы с Маддаленой поднимаемся следом за ней в комнату. Книг на столе стало ещё больше, как, впрочем, и фотографий. На полке лежит открытая папка-скоросшиватель с Лилианиными снимками.
– Кало говорил, его дочь тоже прекрасный фотограф, – нарушает молчание Маддалена, оглядываясь по сторонам. Я не отвечаю. – А ты чем занимаешься? В школу ходишь?
– Отучилась два года в училище, потом бросила.
Она начинает перелистывать страницы, и я одного за другим узнаю земляков.
– Не нравилось учиться?
Вот Нардина у галантерейной лавки дона Чиччо, дородная Шибетта, выходящая из церкви под вуалью цвета слоновой кости, которую вышила моя мать, Неллина у дверей ризницы... Какой смысл разглядывать эти кривляющиеся с глянцевой бумаги лица, если на них и без того натыкаешься всякий раз, как выходишь из дома? Предложи мне кто никогда больше с ними не встречаться, я бы ещё и приплатила.
– Нет, нравилось. Только негоже девушке слишком много знать. Так мать говорит. А потом, после случившегося...
– Снова пойти учиться не хочешь?
– Да поздно уже, теперь это всё в прошлом, – бормочу я и сразу вспоминаю, как учила с синьорой Терлицци латинские времена, когда ещё верила, что rosa, rosae, rosae – это волшебная формула, способная отвести беду.
– Сдать экзамены экстерном и после работать учительницей не думала?
– Отцу это уже приступа стоило. Клочок земли, что у нас был, полдюжины кур – всё потравили. А с вышивкой я справляюсь, мать хвалит, говорит, я молодчина.
– Слушай, Олива, я вот почему с тобой с глазу на глаз поговорить хотела, – вздыхает наконец она. – Адвокат станет спрашивать и о том, чего тебе, возможно, вспоминать не хочется, но ты должна знать: он это делает только потому, что хочет помочь. Чем больше ты ему объяснишь, тем будет лучше.
– И что тогда ждёт... ну, этого? – спрашиваю я, не сводя глаз с Лилианиных фотографий.
– Ему предъявят обвинения в похищении и сексуальном насилии.
– Старшина сказал, что мне никто не поверит и что судья ничего делать не станет.
– Что ж, возможно и такое, – отвечает она. – Сабелла, конечно, хорош, но результата я обещать не могу. Если решишь продолжать, то только ради себя самой, ради того, чтобы людям правду сказать.
У меня сводит живот: я пока не знаю, будет ли мне это по душе. Правда ведь и в том, что моё сердце всякий раз начинало биться сильнее, если я видела, как он стоит на той стороне улицы, ожидая, пока я пройду мимо. И в том, что я расстраивалась, когда та сторона улицы оказывалась пуста и никто не провожал меня взглядом до самой грунтовки, ведущей к дому.
Маддалена продолжает перелистывать страницы, и на одной из них вдруг возникает материно лицо в обрамлении шали, которую она отдала мне в день похищения.
– Мне нравилось ходить в школу, ведь тогда я знала ответы на любой вопрос, а теперь уже ничего не знаю. Соседи ждут, что я пойду к алтарю, и ей, – я указываю на фотографию, – наверное, это бы тоже понравилось. Брат, похоже, хочет, чтобы я вышла замуж за Саро, нашего с ним друга детства, но тот женился бы на мне только из жалости, а я не хочу принести ему несчастье. Не говоря уже о том, что тем самым подвергну опасности всю его семью, и им в конечном итоге придётся расплачиваться за мой грех. И потом, есть ещё отец: если я отступлюсь, он будет разочарован. Слишком много унижений принесла ему эта история, слишком много пересудов, косых взглядов: вон, и сердце не выдержало...
Колени дрожат, мне так стыдно, что я даже в глаза ей взглянуть не могу.
– Я стольких людей растревожила из-за глупой ошибки, в которой сама виновата не меньше, чем тот человек. Но правда в том, что я трусиха. Какой из меня пример?
Маддалена берёт мою руку и кладёт на материну фотографию.
– Смелость подобна растению, – говорит она, – ей нужна забота, хорошая почва, вода, солнечный свет... Представь, что двое стали свидетелями преступления и узнали убийцу: вот только он принадлежит к весьма влиятельной семье. Что они сделают? Заявят на него или промолчат? Если знают, что им отомстят, то, конечно, молча пойдут домой. Героями в одиночку не становятся. И мы с адвокатом Сабеллой сюда приехали вовсе не для того, чтобы уговорить тебя что-то сделать, а для того, чтобы ты знала: если захочешь – сможешь.
Какое-то время мы обе молчим. В открытое окно доносится радио: «Ренато-Ренато-Ренато...», – поёт Мина. А ведь подобные песенки, в которых свободные, лишённые предрассудков девушки обвиняют парней в том, что те ещё ни разу не целовались, – тоже вранье: в реальной жизни нам лишний раз вздохнуть – и то смертный грех. «Ренато-Ренато-Ренато...» – всё повторяется навязчивая строчка, пока музыка не умолкает и не наступает тишина.
– И как ты после всего этого? – спрашивает вдруг Маддалена: единственный вопрос, которого мне до сих пор никто не задал, наконец прозвучал.
– Не знаю, – говорю я, глядя на материну фотографию, словно признаюсь в этом именно ей. – Я ведь даже не помню, какой была раньше.
Магдалина молчит, не отвечает, а моя рука гладит материно лицо: каждую её морщинку, каждую боль. Так нас и застаёт заглянувшая в комнату Лилиана.
– Адвокат Сабелла приехал, – объявляет она.
57.
Адвокат, устроившись во главе стола, первым делом достаёт из чёрного кожаного портфеля несколько листов бумаги, кладёт их перед собой.
– Итак, для начала мне хотелось бы попытаться восстановить хронологию событий, – говорит он, когда я сажусь рядом с отцом, и сразу, без дальнейших предисловий, переходит к сути: – Что именно произошло вечером 2 июля этого года?
– Положа руку на сердце, синьор адвокат, тут и рассказывать-то нечего, – начинает отец. – Оливу силой, против её желания, взял известный всему городу подонок: каждый знает, что у этого юнца совесть нечиста...