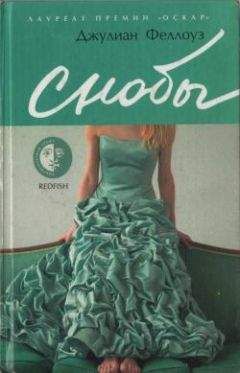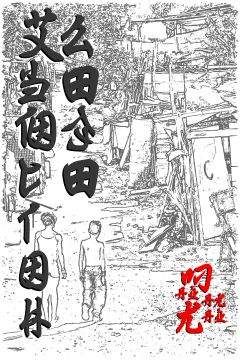Снобы - Феллоуз Джулиан
– Как это мило со стороны Эдит и Чарльза. – Белла задержала на языке непривычные имена и заговорщически чуть улыбнулась мне.
Я понял, что Саймону суждено немало ее позабавить.
Возвращаться к Бротонам второй вечер подряд и снова поддерживать вежливые беседы с Гуджи и Тигрой нам, конечно, не хотелось. Мы с Беллой позже признались друг другу, что оба втайне думали отказаться. Полагаю, Саймону подобные сомнения были неведомы. Но в данном случае мы оба, независимо друг от друга, пришли к выводу, что это было бы крайне неучтиво после того, как нам оказали такую услугу и значительно улучшили нашу долю. И вот опять, в самом начале девятого, мы, хрустнув гравием, затормозили у ворот и подошли к главному входу.
Саймон разительно переменился. Вчера его общее бахвальство (незаметно для него самого, конечно) даже самому рассеянному наблюдателю давало понять, как неловко Саймон чувствует себя в высшем обществе. Время от времени он небрежно ронял имена, не имевшие никакого веса, и говорил о событиях светской жизни, либо не имеющих никакой валютной ценности, либо, что любому было ясно, известных ему очень смутно. И в конце концов трудно было не посочувствовать его неуклюжим потугам, несмотря на то, каким успехом он пользовался у хозяйки. Как многие актеры и бо́льшая часть гражданского населения вообще, он теперь вынужден был доказывать свое право принадлежать миру, где уже давно считал себя своим, но куда редко или почти никогда не попадал в действительности. Но сегодня сомнения оставили его. Он светился той радостью, какая отличает неуверенных в себе эгоистов, когда они обнаруживают, что их опасения были беспочвенны и они нравятся. Трудно было не встретиться глазами с улыбающейся Беллой, пока мы поднимались в семейную гостиную, а Саймон проводил рукой по сияющим перилам и благожелательно переговаривался с дворецким всю дорогу, настоящий друг семьи. Поднявшись, мы смогли насладиться зрелищем, как он приветствует лорда и особенно леди Акфилд, словно старых приятелей.
Одна из несомненных, основных жизненных истин – обычно мир ценит вас настолько, насколько вы цените себя сами. Так неопытная хозяйка салона дрожит от волнения, просматривая список гостей, снова и снова размышляя, смеет ли она, имеет ли право пригласить некую титулованную особу или телезвезду, которых едва знает, и только много лет спустя понимает, что никто обычно не подвергает сомнению «право» присылать пригласительные билеты. Если человек хочет прийти, он принимает приглашение. Если нет – не принимает. И вот сейчас лорду Акфилду не пришло бы в голову задуматься, равен или нет ему Саймон Рассел по социальному положению. Он, очевидно, считает себя таковым, и вкупе с тем фактом, что его место в жизни лорда Акфилда ограничивается поеданием ужинов и рассказыванием анекдотов, это более чем оправдывало его дружелюбную фамильярность в глазах пэра. Именно таким образом многим удается занять достаточно заметное место в обществе, особенно лондонском. Саймон ничем не отличался от какого-нибудь торговца произведениями искусства или, скажем, любителя оперы, которых подбирают разнообразные герцогини наших дней и чьи улыбающиеся во весь рот физиономии, затесавшиеся между телезнаменитостями и женами наследников больших состояний, можно порой увидеть в журналах. Такие люди, как Саймон, не подозревают, что, несмотря на поверхностное признание, которого они добиваются своим очарованием и непринужденными манерами, их вельможные хозяева не воспринимают их всерьез как равных. Очень грустно наблюдать, как после долгих лет верной службы в гостиной такой «любимчик» какой-нибудь знатной семьи прибывает на какое-нибудь мероприятие – на свадьбу или, еще хуже, на похороны – и обнаруживает, что ему отвели место в самом последнем ряду, между местным депутатом парламента и трубой парового отопления, в то время как малознакомых и очень не любимых хозяевами родовитых дворян проводят в самый первый ряд. Такова жизнь. Или, по крайней мере, таковы ее ценности. И этого Саймон Рассел совсем не знал, а леди Акфилд знала очень хорошо.
Но заинтересовала меня в тот вечер совсем не реакция леди Акфилд на поведение Саймона (как и следовало ожидать, она встретила его, аккуратно скрывая, что он ее забавляет), а поведение Эдит. От вчерашнего дурного настроения и демонстративной враждебности не осталось и следа, их место заняло томное безмолвие. Она казалась еще прекраснее, чем вчера, в своей черной юбке и блузе из кремового шелка, с ниткой жемчуга у шеи и еще одной, небрежно обернутой вокруг запястья. Лучше слова мне не подобрать: такой соблазнительной я не видел ее со дня свадьбы. Она не оставила своего холодного hauteur – и я искренне верю, что к тому времени она его за собой уже не замечала, – но когда мы вошли, она, сидя на диване, посмотрела на нас тем определенным взглядом, который, как я выяснил на собственном опыте, обычно означает, что женщина шутить не намерена.
Оглядываясь назад, я вынужден заключить, что план Эдит держаться подальше от города, чтобы не наделать бед, был обречен на неудачу с самого начала. Как это бывало с какой-нибудь скучающей женой колониста в горном поселении в Индии, отсутствие сочувствующих компаньонов заставляло ее видеть в необыкновенно выгодном свете любого, кто просто добрался бы туда. Не уверен, что если бы они с Чарльзом с головой окунулись в вихрь вечеринок и удовольствий, благотворительных балов и другой чепухи, с нетерпением ожидавшей их в Лондоне, то ее добродетель была бы в большей опасности. Супруги, которым редко доводится говорить друг с другом, так и не узнают, как мало у них общего. Близкое общение, как и выход на пенсию у средних классов, нередко влечет за собой развод. Но в одном я уверен: в Лондоне Саймон Рассел никогда не заинтересовал бы Эдит. Он был ослепительно хорош собой, как я уже говорил, но обложка была значительно интереснее самой книги. Он умел поддержать беседу и мастерски флиртовал, наблюдать за ним было одно удовольствие, но в действительности никакого особенного содержания в нем не было. Я не хочу сказать, что он мне не нравился. Напротив, он был мне очень симпатичен. И он мог рассуждать об ипотечных кредитах, Европе и Мадонне не хуже любого другого, но ведь и Чарльз тоже мог (разве что кроме Мадонны). А вот feu sacré [30], того священного, харизматического пламени, которое заставляет реальность исчезнуть под напором любви, – ничего подобного у Саймона не было. По крайней мере, я за ним ничего такого не замечал.
– Скажите, мистер Рассел, что вам больше всего нравится играть?
Это леди Акфилд. Она всегда старательно обращалась к незнакомцам, особенно если они были моложе ее, «мистер» и «мисс» или называла их полный титул. Основной причиной для этого, да и для формирования всего ее словаря, было поддержание своего образа как чудесным образом дожившей до наших дней дамы эпохи короля Эдуарда. Ей приятно было сознавать, что в ее манерах и поведении люди получат шанс увидеть, как было заведено в более правильные времена. Как управлялась бы с делами леди Десборо, или графиня Дадли, или маркиза Солсбери, или любая другая из забытых красавиц fin de ciècle, которые превращали свою жизнь в произведение искусства, утраченного вместе с ними. Частью этого тщательно продуманного действа было то, что всему, к чему она прикасалась, приписывалась уникальность. Она постоянно говорила о «рецептурах» и «легких обедах», обращая внимание на ирландскую ветчину у себя на столе («сухая, абсолютно восхитительная, и ее совершенно невозможно достать в Англии»), или на свою французскую вишню («я ем ее буквально до отвала»), или на желтую американскую бумагу («знаете, я просто не могу писать ни на чем другом»). Изюминка этого подхода состояла в том, что гости были вынуждены, как в случае с новым платьем короля, согласиться, что чувствуют во всем, что перед ними ставят, огромное отличие от всего прочего, и таким образом придать новую силу тому самому предубеждению, что заставило их лгать с самого начала. На самом деле еда всегда была хороша и подобрана со вкусом, так что я так же малодушно, как и остальные, притворялся, что замечаю яркую разницу во вкусе между различными видами спаржи или что там нам предлагалось оценить сегодня. Да и в любом случае, чем больше я узнавал леди Акфилд, тем больше восхищался законченностью ее образа. Она никогда не давала себе передышек и неизменно оставалась сверхобворожительной и сверхутонченной маркизой давно ушедших, но прекрасных времен. Всегда. И я уверен, что, если бы ей предстояло лечь на потенциально смертельную операцию, она очень обеспокоилась бы тем, какой марки будут ножницы у хирурга.