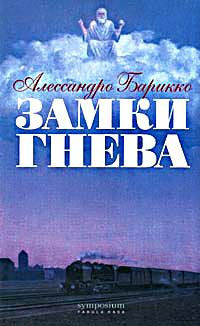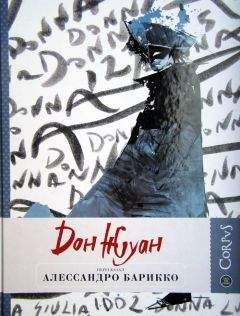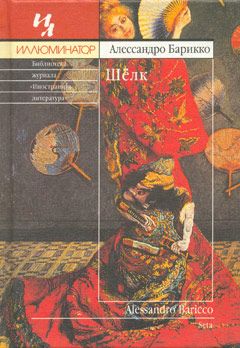Юная Невеста - Барикко Алессандро
Мы проснулись, когда уже было поздно. Взглянули друг на друга и поняли: нельзя, чтобы нас застали так. Инстинкт велит всегда начинать все сначала. Мы поспешно принялись за уборку, я переоделась, он поднялся к себе в комнату. Я никогда не видела, чтобы он так двигался: один уверенный жест за другим, глаза живые, походка изящная. Мне пришло на ум, что Дочери легко будет его любить.
Мы не обменялись ни словом. Только в какой-то момент я спросила:
– И теперь что вы будете делать?
– А вы? – отозвался он.
В полуденном солнце кто-то постучался в дверь, почтительно, но твердо.
Модесто.
Дойдя где-то до этого места, я забыл свой компьютер на сиденье автобуса. Автобус пересекал остров с севера на юг, пробираясь по улочкам, в которые едва помещался. По-простецки втискивался между домами, оставляя зазор в пару миллиметров. В какой-то момент я сошел и забыл компьютер на сиденье. Когда обнаружил это, автобус уже исчез. Хороший был компьютер, помимо всего прочего. А в нем – моя книга.
Естественно, было бы несложно его вернуть, но я, по правде говоря, махнул рукой. Чтобы понять почему, нужно представить себе повсюду разлитый свет, море вокруг, ленивых псов на солнышке, да и вообще то, как люди живут в таких местах. На юге мира действуют любопытные приоритеты. У южан особое отношение к проблемам: решать их вовсе не первый жест, который приходит в голову. Поэтому я немного погулял, уселся в порту на низкую стенку и стал смотреть, как лодки снуют туда и сюда. Мне нравится, что всякое дело они делают медленно. Если смотреть издалека, я хочу сказать. Это своего рода танец, кажется, он каким-то образом исполнен мудрости или торжественности. Иногда – разочарования. Может быть, есть в нем оттенок отрешенности, мягкий. В этом волшебство, чары любого порта.
Потому я и сидел там, и все складывалось прекрасно.
После, вечером, я вернулся к истории с компьютером, но без особой тревоги или страха. Это может показаться странным, если учесть, что писать на этом компьютере и созидать мою книгу многие месяцы было единственным занятием, которому мне удавалось посвящать себя с достаточной страстью и ненарушимым тщанием. Я должен был бы обделаться от ужаса, вот что должно было произойти. А я просто подумал, что буду продолжать писать, но теперь в уме. Такой эпилог мне даже показался естественным и неизбежным. Я вдруг подумал, что стучать по клавиатуре – какая-то ненужная тяжесть, механический довесок к жесту, который может стать куда более легким и неподдающимся захвату. Тем более что уже давно я писал мою книгу, прогуливаясь, или лежа на земле, или ночью, во мраке бессонницы; потом, за компьютером, я подкручивал гайки, натирал воском, как следует упаковывал – весь репертуар приемов ремесла; теперь, по правде говоря, я уже и не припомню точно, для чего они надобны. Для чего-то да надобны, определенно. Но я забыл для чего. Это, наверное, и не важно.
Нужно также иметь в виду, что, если ты для этого рожден, писание является жестом, совпадающим с памятью: ты запоминаешь все, что пишешь. Следовательно, на самом деле было бы неверно утверждать, будто я потерял мою книгу, поскольку, если уж говорить начистоту, я мог бы рассказать ее всю наизусть, ну, может, не всю, но в любом случае те части, которые что-то значат. Разве что не мог в точности припомнить некоторые фразы, но следует отметить также, что, вытаскивая их на поверхность из того места, куда они проскользнули, я их в конце концов переписывал, в уме, придавая им форму, очень близкую к оригинальному тексту, но все-таки не совсем идентичную, и в результате получалось что-то вроде расфокусировки, или мерцания, или удвоения, отчего все, что я ни писал в своем воображении, блистательным образом вызревало. Ведь в конечном итоге та единственная фраза, которая могла бы в точности передать особое намерение пишущего, никогда не будет одной фразой, но суммой, наслоением всех фраз, какие он сначала вообразил, потом записал, потом припомнил: прозрачные, они должны были бы накладываться друг на друга и восприниматься одновременно, словно аккорд. Это и проделывает память с ее фантасмагорической приблизительностью. Итак, если быть объективным, я не только не потерял мою книгу, но в определенном смысле заново обрел ее во всей ее полноте, теперь, когда она развоплотилась, отправившись на зимние квартиры моего ума. Я мог вызвать ее на поверхность в любой момент, едва заметным усилием, происходящим из тайных глубин моего существа, откуда именно, затрудняюсь сказать: она возникала вновь в мерцающем блеске, рядом с которым четкий порядок отпечатанной страницы отдавал неизменностью могильной плиты.
Или, во всяком случае, так мне казалось, когда я сидел в портовом кабачке тем вечером, на острове. Я – гений по части того, чтобы выискивать в неприятностях хорошие стороны. Застрянь я в лифте на Рождество, я и в этом отыскал бы свои преимущества. Такому трюку я научился от отца (о, он еще жив и по ночам проходит по своему персональному полю для гольфа на девять лунок). Например, будет что рассказать за обедом в день святого Стефана [8].
Обо всем этом я размышлял и тем временем перечитывал книгу, местами переписывал, все в уме, машинально макая хлеб в соус от фрикаделек.
В какой-то момент жизнерадостный толстяк, сидевший за соседним столиком, тоже в одиночестве, спросил, все ли со мной в порядке. Я подумал, что, наверное, выкинул какой-нибудь фокус – это вполне возможно, когда я читаю или пишу книгу в голове, другие части тела порой выходят из-под контроля. Я хочу сказать, те, куда книга не проникает. Щиколотки, например.
Я выбрался из своей книги и заявил, что у меня все в полном порядке.
– Я писал, – пояснил я любопытному.
Он кивнул утвердительно, дескать, такое происходило также и с ним, много лет назад, в молодости.
– Теперь мне шестьдесят.
Благодушный, довольный собой, он охотно сообщил мне, что приехал сюда, на море, потому что уговорил уступчивого врача прописать ему недельку бальнеотерапии. Им на это сказать нечего, уточнил толстяк. Думаю, он имел в виду своих работодателей. Пояснил, что за этой самой бальнеотерапией ты как за каменной стеной. Пусть себе едут и проверяют, сказал. Потом перешел к политике и спросил у меня, спасется ли Италия.
– Очевидно, что нет, если все итальянцы такие, как мы с вами, – ответил я.
Он нашел это весьма забавным, ему показалось, что мы подружимся, или что-то в таком роде. Решил, что мы созданы друг для друга, потом отправился восвояси. Хотел пораньше вернуться домой: назавтра соседи пригласили его отведать баклажанов – связь между тем и другим казалась ему такой очевидной, что не требовала объяснений.
Так я остался в кабачке последним посетителем. Вот что еще мне нравится: когда за мной закрывают рестораны, по вечерам. Я сижу и смотрю рассеянно, как гасят свет, ставят стулья на столики. Особенно нравится мне наблюдать, как официанты расходятся по домам, одетые по-человечески, без белой куртки или передника, внезапно вернувшиеся на землю. Они идут слегка нетвердой походкой, похожие на лесных зверей, расколдованных, ускользнувших от чар.
Этим вечером, однако, я их не замечал. Дело в том, что я продолжал писать. Даже не помню, к слову, оплатил ли я счет. Я писал в уме начиная с того момента, когда уехала Юная Невеста. Рано или поздно это должно было случиться, и в тот день, когда случилось, все сумели воспроизвести уместные жесты, подсказанные воспитанием и обкатанные десятилетиями хорошего тона. Вопросы исключались. От банальных советов воздерживались. Чувствительность не поощрялась. Все видели, как Юная Невеста исчезла за поворотом, но никто не мог бы сказать, куда она направилась: но библейское исчезновение Сына и остановка времени, которой это исчезновение отметило их дни, сделали их неспособными выявить слабую связь, какую обычно имеют между собой отъезд и приезд, намерение и поведение. И они смотрели, как девушка уезжает, так же, как, по сути, смотрели на ее приезд: не ведая ни о чем, обо всем осведомленные.