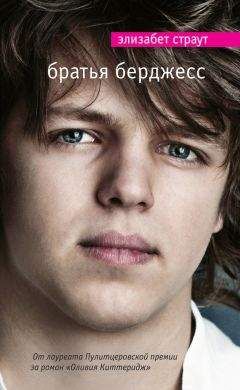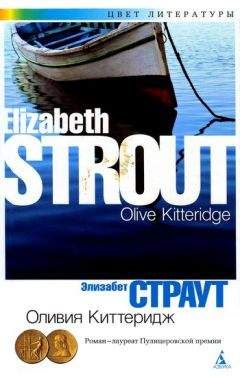Ах, Вильям! - Страут Элизабет
Он бросил на меня взгляд:
— Люси, да какая разница. Ну серьезно. Не познакомился я с ней, и ладно. Мне было страшно, а ты пыталась помочь. — Немного помолчав, он добавил: — Не волнуйся ты. Тоже мне.
Но лицо его не стало прежним.
* * *
Мы заехали на парковку аэропорта, она была огромная и пустая. Несмотря на ее пустоту, мы не сразу разобрались, куда ставить машину, пришлось сделать несколько кругов, затем мы достали чемоданы и покатили их ко входу. Аэропорт выглядел — как мне показалось — еще страннее, чем когда мы прилетели. Он был маленький. И при этом какой-то иноземный, я ощутила это, едва мы попали внутрь. Ни кафе, ни палаток с едой там не было. Время близилось к трем.
Не успели мы дойти до стойки регистрации, как Вильям сказал:
— Знаешь, Люси, мне надо проветриться.
— Ладно, — сказала я. — Составить тебе компанию? (Он помотал головой.) Тогда посторожу чемоданы.
Но я проголодалась, а перекусить было негде, и я потащилась — с двумя чемоданами — по крытому переходу в отель, но, пройдя через двойные двери, сразу увидела, что ресторан не работает. На баре висела табличка: «Закрыто до 17:00». Я тяжело вздохнула и развернулась. «В этом штате вообще когда-нибудь едят?» — подумала я. И как только я это подумала, мой взгляд упал на самого толстого человека, какого я когда-либо видела. Он пытался протиснуться в двойные двери, через которые я только что прошла, он открыл одну створку, но этого оказалось недостаточно. Он не выглядел старым, ему могло быть и тридцать. Но штаны у него раздувались, словно паруса, а лицо утопало в складках жира. Я отпустила ручку чемодана и потянула на себя вторую створку двери, и он улыбнулся, несколько пристыженно, и я сказала: «Прошу», а он мне: «Спасибо» — с застенчивой улыбкой — и зашагал к стойке администратора.
Идя обратно по переходу, я подумала: «Я знаю, каково этому толстяку» (хотя, разумеется, я этого не знала). Но я подумала: «Как странно, я чувствую себя невидимкой, но, с другой стороны, я знаю, каково это — носить клеймо инаковости, только в моем случае клеймо замечают не сразу». Вот что я подумала о том толстяке. И о себе.
В окно зала регистрации я увидела, как Вильям шагает по огромной парковке, сначала он шагал в один ее конец, пока не превратился в маленькую точку, после этого шагал обратно, затем остановился и долго-долго качал головой. А потом снова зашагал по парковке.
Ах, Вильям, подумала я.
Ах, Вильям…
* * *
Пока мы ждали рейс, я взглянула на Вильяма. Знакомое выражение лица: он снова ушел в себя. «Давай ты сама расскажешь девочкам о поездке, — попросил он. — Мне что-то не хочется». И я пообещала, что расскажу. Мы прошли в самолет; это был маленький самолет, и наш багаж никак не помещался на верхнюю полку, и тогда стюард — приятный юноша — забрал наши чемоданы и сказал, что они будут ждать нас на телетрапе, уже по прилете.
Вильям сидел возле прохода — у него ноги длиннее, — и мы болтали о разных пустяках, потом он безжизненным голосом снова заговорил о том, как Лоис Бубар не захотела с ним видеться, а потом мы устроились поудобнее, и полет был недолгим. Увидев в иллюминатор Нью-Йорк, я испытала то, что испытываю почти каждый раз, когда прилетаю сюда, — благоговение напополам с признательностью за то, что этот огромный, разлапистый город принял меня — позволил мне в нем жить. Вот что я испытываю почти каждый раз, когда вижу его с высоты. Меня захлестнуло чувство благодарности, и, повернувшись к Вильяму, чтобы ему об этом сказать, я увидела, что по щеке у него катится капля, а когда он взглянул на меня, я увидела каплю и на другой щеке. И подумала: «Ах, Вильям…»
Но он помотал головой в знак того, что ему не нужна поддержка, — разве бывают люди, которым не нужна поддержка? — но ему не нужна была моя поддержка, и, пока мы ждали багаж на телетрапе, он молчал и больше не плакал. Он просто еще глубже ушел в себя, он делал это с тех самых пор, как мы уехали из Хоултона. Когда мы вышли на стоянку такси, Вильям залез в машину и сказал на прощанье:
— Спасибо, Люси. Я тебе позвоню.
Но он не позвонил. Он еще долго не звонил.
* * *
Проезжая по мосту, — уже в своем такси — я вдруг вспомнила, как мучилась в первые годы нашего брака, когда мы снимали квартиру в Виллидже. Это было из-за родителей, порой на меня накатывало чувство, что я их бросила, — ведь так оно и было — и тогда я садилась на кровать в нашей маленькой спальне и рыдала от нестерпимой боли, а Вильям заходил в комнату и говорил: «Люси, что с тобой? Не молчи». А я просто мотала головой, пока он не уйдет.
Как ужасно я поступала!
Раньше мне это не приходило в голову. Не позволять мужу утешать себя — как это жестоко!
А я и не догадывалась.
Такова жизнь: мы о многом не догадываемся, пока не станет поздно.
* * *
Когда я вернулась к себе в квартиру, там было очень пусто. И я знала, что там всегда будет пусто, что Дэвид уже не войдет, прихрамывая, в эти двери, и мне вдруг стало безумно одиноко. Я отвезла чемодан в спальню, села на диван в гостиной и взглянула на реку, и пустота вокруг внушала ужас.
«Мамулечка! — взмолилась я к матери, которую однажды сама себе придумала. — Мамулечка, мне больно!»
И мать, которую я однажды сама себе придумала, ответила: «Ничего, солнышко. Ничего».
И вот что мне вспомнилось.
Когда-то давно я смотрела документальный фильм про заключенных женских тюрем и их детей, и там была одна женщина, очень крупная, с милым лицом, на коленях у которой сидел маленький мальчик лет четырех. В фильме говорилось, как важно не разлучать детей с матерями, и в этой тюрьме им разрешалось видеться в рамках нового — по тем временам — подхода. И маленький мальчик, сидевший на коленях у этой огромной женщины, взглянул на нее и тихо сказал: «Я люблю тебя больше, чем Бога».
Никогда этого не забуду.
* * *
В субботу мы с девочками встретились в «Блумингдейле». Было очень приятно повидаться с ними, да и вообще увидеть в магазине столько народа. Считается, что в конце августа все богатые ньюйоркцы уезжают в Хэмптоны[4], но прежний контингент никуда не делся: тонкие, как тростинки, престарелые дамы с подтяжкой лица и большущими губами. Я смотрела на них с любовью; я любила их, вот что я пытаюсь сказать.
Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна. Крисси рассмеялась и поцеловала меня.
— Врач сказал ничего не делать три месяца и даже не волноваться об этом, а три месяца еще не прошло, так что и ты не волнуйся.
Я ответила:
— Хорошо. Я и не волнуюсь.
Когда мы сели за столик, девочки сказали:
— Выкладывай все!
И я принялась рассказывать обо всем, что случилось в Мэне, и они очень внимательно слушали. Узнав о прошлом Кэтрин, они не могли поверить своим ушам.
В конце я спросила:
— Вы с ним разговаривали?
Девочки кивнули, и Крисси сказала:
— Но он ведет себя как говнюк.
— В каком смысле?
— Из него слова не вытянешь. Сама знаешь, каким он бывает. — Крисси откинула волосы назад.
— По-моему, папу все это очень задело, — сказала я, переводя взгляд с одной дочки на другую. — Ему ведь прилетело вдвойне: сначала его бросила Эстель, а потом с ним не захотела общаться единоутробная сестра. Даже втройне. Ведь он еще и увидел дом своей матери. Девочки, это было просто — просто — ужасно. Он понятия не имел, что она выросла в таком месте. Ни малейшего понятия.
Когда я описала дом, в котором провела детство Кэтрин, девочки — как и мы с Вильямом — были потрясены.
— В голове не укладывается, она ведь играла в гольф, — сказала Крисси. И я прекрасно ее понимала.