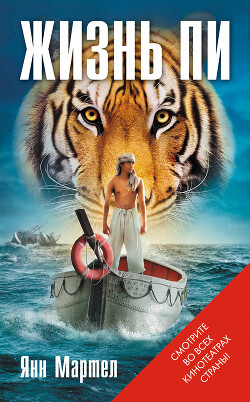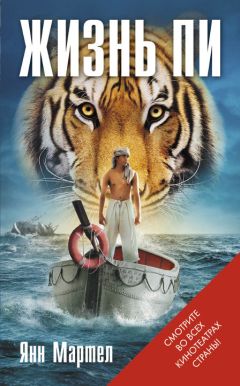Жизнь Пи - Мартел Янн
Представления об окружающем мире у трехпалого ленивца весьма ограниченные. По шкале от двух до десяти, где «двойка» означает предел тупости, а «десятка» — обостренное чутье, Биби [5] оценил в 1926 году такие чувства ленивца, как вкус, осязание, зрение и слух, на «двойку», а обоняние — на «тройку». Случись вам натолкнуться на спящего ленивца в природе, ткните его легонько разок-другой, и он очнется — будет спросонья озираться по сторонам, а на вас даже не глянет. Да и вообще непонятно, зачем ленивцу к чему-то приглядываться: ведь ему все кажется расплывчатым — нечетким, как в кино, когда уходит резкость. Что же до слуха, ленивец не такой уж глухой — просто звуки его мало волнуют. Тот же Биби сообщал, что если пальнуть из ружья над ухом спящего или кормящегося ленивца, тот и глазом не моргнет. Впрочем, и обоняние ленивца, с которым у него вроде бы все в порядке, не стоит переоценивать. Хоть и говорят, будто ленивцы по запаху угадывают гнилые ветки и обходят их стороной, но Буллок сообщал в 1968 году, что ленивцы «часто» падают на землю, сваливаясь с трухлявых сучьев. И как только они умудряются выжить, спросите вы. Как раз благодаря своей медлительности. Сонливость и нерасторопность хранят их от всяких напастей — от острого глаза и нюха ягуара, оцелота, орла и анаконды. В шерсти ленивца заводятся водоросли — в засуху они буреют, а в сезон дождей зеленеют, так что, слившись с окружающей средой, среди мхов да листвы, зверек делается невидимым, вернее, становится похожим не то на муравейник, не то на гнездо белки, а то и вовсе на кусок дерева.
Трехпалый ленивец живет тихо и мирно и знай себе пожевывает листья — словом, в полной гармонии с окружающей средой. «На губах у него неизменная добродушная улыбка», — подметил в 1966 году Терлер. Я тоже видел, как улыбается ленивец, — своими собственными глазами. Хотя мне совсем не свойственно наделять животных человеческими качествами и манерами, но в течение того месяца, в Бразилии, я часто наблюдал, как ленивцы отдыхают, и всякий раз ловил себя на мысли, что они — йоги, медитирующие в перевернутых асанах, или отшельники, погруженные в молитву, а может, мудрецы, живущие своим пылким воображением, недоступным моему, сугубо научному пониманию.
Порой мои наблюдения в двух разных областях науки наслаивались друг на друга. Некоторые из моих однокашников, ударившиеся в богословие, — по сути, агностики с полной мешаниной в голове, не различающие белое и черное, рабы тупого здравомыслия, затмевающего блеск живого ума, — уж больно напоминали трехпалых ленивцев, а трехпалый ленивец, как истинное чудо природы, напоминал мне о Боге.
С моими приятелями-учеными мне всегда было легко и просто. Ученые — народ дружелюбный, не признающий Бога, работящий, охочий до пива, помышляющий лишь о сексе, шахматах да бейсболе — в свободное от науки время, конечно.
Учился я на «отлично», если пристало так говорить про себя самого. Четыре года кряду был лучшим студентом колледжа Сент-Майкл. За что и удостоился всевозможных студенческих наград зоологического факультета. А если не получил ни одной на богословском, то исключительно потому, что студентов там вообще не награждали (награды за успехи на религиозном поприще, известное дело, вручаются отнюдь не из рук смертных). Я наверняка получил бы и генерал-губернаторскую академическую медаль — высшую студенческую награду Торонтского университета, если б не один паренек, краснощекий обжора с бычьей шеей и редкостный весельчак.
Обида до сих пор гложет меня, хотя уже и не так сильно. Даже если жизнь тебя изрядно побила, новая боль, хоть и пустячная, кажется нестерпимой. Жизнь моя похожа на образ memento mori из европейской живописи; мне всегда скалится череп, напоминая о тщете человеческой гордыни. Я смеюсь над черепом. Гляжу на него и говорю: «Ошибся адресом! Ты не веришь в жизнь, а я — в смерть. Катись-ка подальше!» А череп знай себе посмеивается да подкатывает все ближе, — впрочем, оно и неудивительно. Смерть всегда ходит за жизнью по пятам, и причина тому не биологическая необходимость, а самая обыкновенная зависть. Жизнь до того прекрасна, что смерть влюблена в нее, да вот только любовь у этой ревнивицы хищническая, ненасытная. Впрочем, жизнь легко переступает через забытье и расстается только с пустяками, а тьма — не что иное, как преходящая тень от мимолетной тучи. Того краснощекого паренька наградили и стипендией Родса. Я люблю его и думаю, он так же преуспел и в Оксфорде. Если богиня Лакшми, покровительница богатства, когда-нибудь снизойдет и ко мне, Оксфорд будет пятым по счету среди городов, где мне хотелось бы побывать перед смертью, после Мекки, Варанаси, Иерусалима и Парижа.
Ничего не скажу про свою трудовую жизнь, кроме того, что галстук — удавка, хоть и перевернутая, и мигом задушит любого, кто потеряет бдительность.
Я люблю Канаду. Я скучаю по знойной Индии, по индийской кухне, домашним ящерицам на стенах, музыкальным фильмам, коровам, бродящим прямо по улицам, по карканью ворон, даже по разговорам про крикет… но я люблю Канаду. Эту великую страну, чересчур холодную даже для сдержанного рассудка, где живут добродушные, благоразумные люди с никуда не годными прическами. Как бы то ни было, дома, в Пондишери, меня никто не ждет.
Ричард Паркер одно время был при мне. И забыть его я не в силах. Скучаю ли я по нему? Признаться — да. Скучаю. Он все еще мне снится. Правда, в кошмарах, — но кошмары эти наполнены любовью. Таким вот странным образом устроена человеческая душа. И все же я не пойму: как он мог меня бросить? Вот так бесцеремонно, даже не попрощавшись, даже ни разу не обернувшись. Боль ножом вонзается мне в сердце.
Доктора и медсестры в мексиканской больнице относились ко мне с необычайной добротой. Как и пациенты. И раковые больные, и увечные — все они, заслышав мою историю, ковыляли ко мне на костылях, катили в колясках вместе со своими родственниками, хотя никто из них ни слова не понимал по-английски, а я — по-испански. Они улыбались мне, жали руки, трепали по голове, оставляли на кровати подарки — еду и одежду. А я в ответ то смеялся, то всхлипывал, совершенно непроизвольно.
Через пару дней я уже встал на ноги и даже умудрился одолеть два-три шага, несмотря на тошноту, головокружение и сильную слабость. По анализам крови у меня обнаружились малокровие, повышенное содержание натрия и пониженное — калия. Жидкость из организма не выводилась, и ноги распухли до ужаса. Прямо как у слона. Моча была мутная, темно-желтая, а иногда коричневая. Но через неделю, или около того, я уже мог ходить — почти нормально — и надевать ботинки — правда, без шнурков. Кожа моя зарастала, хотя на плечах и на спине шрамы так и остались.
Когда я в первый раз открыл кран, то при виде хлынувшей оттуда журчащим потоком воды так и остолбенел, голова пошла кругом, ноги сделались ватные, и я как подкошенный рухнул на руки медсестры.
А когда в первый раз оказался в индийском ресторане, в Канаде, то стал есть руками. Официант взглянул на меня с укоризной и спросил: «Никак, прямо с корабля на бал?» Я побледнел. Пальцы мои, которые еще секунду назад воспринимали прелесть пищи раньше неба, в тот же миг будто замарались. И одеревенели, словно злоумышленники, застигнутые на месте преступления. Я не посмел их облизать, а виновато вытер салфеткой. Тот малый и не думал, как глубоко задел меня. Его слова вонзились мне в уши острыми иглами. Я взял нож и вилку. Хотя раньше почти никогда ими не пользовался. Руки у меня дрожали. И самбар потерял всякий вкус.
Глава 2
Живет он в Скарборо. Невысокий, худосочный парень, ростом не больше пяти футов пяти дюймов. Темноволосый, темноглазый. На висках седина. Возраст — не старше сорока. Кожа мягкого кофейного цвета. На дворе осень, но не холодно, а он облачается в широкую парку с капюшоном на меху — мы собираемся в ресторан. Лицо выразительное. Говорит быстро, размахивает руками. Но ни одного пустого слова. Все по делу.