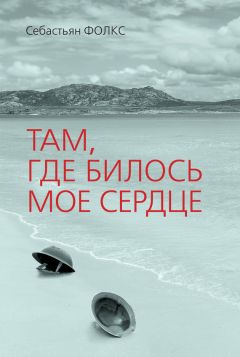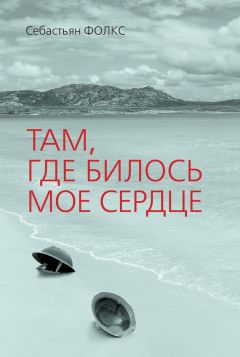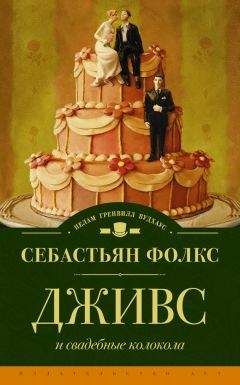Там, где билось мое сердце - Фолкс Себастьян Чарльз
Раздался скрипучий шелест, потом женский голос: «Доктор Хендрикс, это миссис Хоуп, мать Гэри. Я знаю, что вы велели звонить секретарше, но ему опять стало хуже…». Я сел за стол и раскрыл блокнот. Прозвучало еще четырнадцать сообщений, вполне рутинных. Записав то, что было важно, я стер записи и снова нажал на пуск, чтобы убедиться, что не удалил свое приветствие. Аппарат, как обычно, слегка пожужжал и занудил: «Это автоответчик Роберта Хендрикса…»
Я так и не понял, каким образом истеричная угроза незнакомой тетки проскочила перед моим приветствием.
Среди ночи я проснулся — сработал синдром резкой смены часовых поясов. Мне такие сбои даже приятны; как будто внутри осталось немного динамичной энергетики Манхеттена. Пошел на кухню, заварил чаю. Что мне в американцах нравится, так это их умение себя уважать. В Нью-Йорке не обязательно быть старожилом с корнями, там не культивируют самоедство. Есть диплом, есть медная табличка на двери, вот и радуйся, парень. Ты уже точно обогнал толпы только что прибывших из аэропорта Кеннеди искателей счастья. И тут американцы правы. Твоя жизнь не представляет собой ничего особенного, но разве она тебе от этого меньше дорога? Вот именно.
Дорога как никому другому. Прихватив кружку с чаем, я отправился в кабинет и принялся вскрывать скопившиеся письма, адресованные Роберту Хендриксу. Доктору медицины. Члену Королевского общества психиатров. Заслуженному члену Королевского общества психиатров. В этих званиях, можно сказать, отражена вся моя карьера. Кстати, они реальные, а не присвоенные мне авторами писем на всякий случай или из желания подольститься. Добывались они годами труда — далеко не сразу я сумел освоиться в той области медицины, куда пробиваются лишь самые упертые и рисковые. Не знаю, только ли англичане вечно чувствуют себя шарлатанами и всю жизнь боятся, что грянет разоблачение и расплата? Или это характерное свойство человеческой натуры? Уж кому, как не мне, практикующему психиатру, это должно быть известно… Должно бы.
Я взял свой дипломат, выложил гостиничный счет и пару визиток, которые нужно было куда-то убрать. Выдвинув ящик комода, вынул папку, в которую, возможно, еще долго не заглянул бы, и наткнулся на письмо месячной давности, здорово меня тогда огорошившее. Из Франции, штемпель Тулона, написано чернилами, почерк старческий.
Уважаемый мистер Хендрикс!
Простите, что дерзнул написать, но полагаю, вам будет небезынтересно кое о чем узнать.
История такая. В Первую мировую я был пехотинцем в Британской армии, на Восточном фронте (к слову сказать, я и во Вторую служил, военным врачом). После войны до самой пенсии работал невропатологом, занимался старческими проблемами — провалы в памяти и все такое. Мне и самому теперь уж недолго осталось: возраст, болезни. Вот и решил привести в порядок бумаги и архивы. Листая старые дневники, наткнулся на запись про парня с такой же, как у вас, необычной фамилией. Мы служили в одном батальоне с 1915 по 1918. Эту тетрадь я не открывал несколько десятков лет, но возникло ощущение, что фамилию парня я где-то уже видел, причем относительно недавно. И ведь вспомнил где! На одной очень хорошей книге, она попалась мне лет пятнадцать назад. Некто Роберт Хендрикс. «Немногие избранные» [3]. Я тут же отыскал ее в шкафу. Глянул на фото автора на суперобложке и сразу узнал солдата, с которым служил, то же молодое лицо. Можете себе представить, как я разволновился.
Еще сильнее разволновался, перечитав книгу — в один присест, всю ночь читал. В пятой главе автор упоминает, что его отец был портным. Но тот солдат тоже был портным. Уверен, что автор этой книги вы, доктор Хендрикс.
Далее шли еще какие-то фрагменты из прошлого, а в конце письма этот человек, некий Александр Перейра, приглашал меня в гости. И, насколько я понял, готов был предложить мне работу.
В субботу утром я поехал прогуляться в парк у тюрьмы «Уормвуд-Скрабс». По дороге завернул в Криклвуд, чтобы забрать Макса (парсон-рассел-терьера), гостившего во время моего отсутствия у той самой миссис Гомес, которая прибирается у меня в квартире. Мистер Гомес баловал паршивца паэльей и сладким печеньем, однако, завидев меня, Макс всегда ликовал, что не могло меня не трогать. Когда-то я вытащил его, шкодливого щенка, из нортгемптонширского пруда, и он до сих пор страшно мне благодарен.
Мы обогнули весь парк по периметру, вернулись на аллею, идущую вдоль домов тюремной обслуги, и прошли мимо самой тюрьмы. Я подумал о несчастных в тесных камерах, но подумал мельком. Гораздо больше меня волновало, сумеет ли Аннализа сегодня вечером вырваться ко мне.
Так называемые «отношения» часто развиваются только благодаря тому, что было в прошлом, а настоящее не столь уж важно. Такой вот удивительный парадокс. Ты воспринимаешь их скорее как череду свиданий: связность без каузальности, когда отсутствуют вроде бы обязательные звенья причинно-следственной модели. Тем не менее одна лишь мысль о том, что мы можем и не увидеться, заставила меня остановиться, я вдруг ощутил, как важна для меня Аннализа. Но почему-то никак не желал признавать, насколько глубоко это чувство, или честно назвать его более подходящим словом.
У нас был уговор: если трубку снимает ее «друг», я больше не пытаюсь дозвониться, зато она могла звонить мне когда угодно, и звонила регулярно. Я впустил Макса на заднее сиденье и пошел к телефонной будке, это в двух шагах от парковки. Набрав номер и услышав свое приветствие, я мог поднести к трубке диктофон и записать свежие сообщения. Прослушав себя любимого, я стер запись. Сообщений не было.
С Аннализой я познакомился почти пять лет назад, когда пришел в клинику остеопата, что в квартале Куинз-парк. Аннализа работает там в регистратуре. Проблемы со спиной у меня давно. Из-за бурного роста в переходном возрасте недостаточно крепок нижний сегмент грудного отдела позвоночника. Мышцы стараются его защитить и при малейшем напряжении сжимаются в болезненной судороге (однажды меня прострелило, когда я наклонился выключить телевизор). Я перепробовал кучу лекарств, комплексов упражнений, йогу, но улучшение наступило только после жестких манипуляций новозеландского целителя Кеннета Даулинга.
Аннализе сорок с лишним, она хороша собой, держится с достоинством. В тот день на ней была элегантная юбка и кокетливый свитерок. Уже при третьем визите я заметил в ней, кроме деловитой сосредоточенности и дежурной благожелательности, кое-что еще — затаенно-мечтательный взгляд. Пока ждал вызова в кабинет, я расспрашивал ее про работу и далеко ли ей добираться. Она отвечала охотно, с видимым удовольствием, — наверное, пациенты редко вступали с Аннализой в разговоры. В следующий визит, подписав чек, я задержался у стойки. И выяснил, что по вторникам и пятницам она свободна, — это когда я сказал, что мне требуется помощник для бумажной работы и спросил, не согласится ли она за нее взяться.
Кабинет у меня в Северном Кенсингтоне. Это бывшая квартира над магазинчиком, который держат иммигранты из Уганды. Место совсем не солидное, что само по себе свидетельствует об отношении британской медицины к специалистам моего профиля. Хорошо хоть улица спокойная, а в самом помещении не душно. Там имеется кухонька, душевая и маленькая подсобка, видимо когда-то служившая спальней. В этом закутке я разместил картотеку, туда же потом втиснул и столик для Аннализы. Я старался не замечать, когда она легонько задевала меня, проходя в свой «кабинет», и не торопилась одернуть юбку, задравшуюся, пока она усаживалась за стол. Говорят, что так называемое влечение вспыхивает сразу и его нельзя не почувствовать, но всегда существует опасность, что на самом деле с той стороны ничего такого нет и тебе просто мерещится.
Прояснилось все день этак на третий нашего сотрудничества. Помню, я подошел и остановился у нее за спиной, и она тут же сделала шажок назад, нарочно, чтобы коснуться меня. Потом развернулась и чуть подалась ко мне бедрами, теснее прижимаясь к паховой зоне. И минуты не прошло, как мы приступили непосредственно к акту, для чего она удобно наклонилась над столом. Живот у нее слегка обвис, ляжки уже утратили упругую твердость, но эти приметы увядания казались мне трогательными и распаляли еще сильнее.