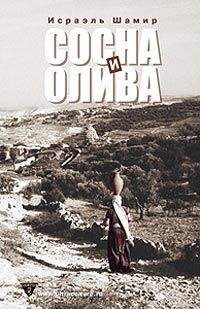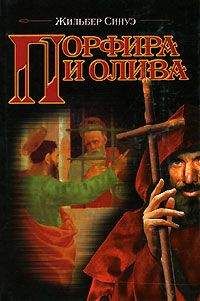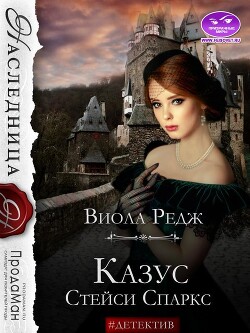Олива Денаро - Ардоне Виола
А когда поднимаемся, в доме по-прежнему тихо. Мать отводит меня в ванную, наполняет таз для белья, в котором, когда мы с Козимино были маленькими, оставляла нас поиграть и отмокнуть. Пробует локтем, не горячо ли, стягивает с меня перепачканную едой ночную рубашку, а я стою перед ней голая и совсем не чувствую стыда. Она усаживает меня таз, хорошенько потерев в руках кусок мыла, намыливает всё моё тело, потом споласкивает, вынимает затычку, и мы заворожённо наблюдаем, как вода жемчужной спиралью уносится в слив. Протянув руку, чтобы помочь подняться, мать берёт с табурета чистое полотенце, вытирает мои мокрые волосы, промокает капельки воды с каждого сантиметра кожи, а добравшись до ступней, тщательно проводит махровой тканью между пальцами.
– Ну вот, – бормочет она, застёгивая мне пуговицы кофточке, – теперь ты чистенькая.
47.
Незадолго до обеда в дверь стучат. Мать, переглянувшись с отцом, идёт открывать. Я слышу, как Неллина желает нам доброго дня, после чего взрослые запираются в кухне поговорить и голоса стихают, доносится только скрип отодвигаемых стульев. За моей спиной выходит из коридора Козимино: после нашего дня рождения он перестал бриться, и вид у него совершенно разбойничий. Чтобы хоть что-то услышать, мы с ним одновременно прижимаемся к деревянному косяку, оказавшись вдруг так же близко, как давным-давно, в материнской утробе. Мои волосы трепещут от его дыхания, и я узнаю этот запах, нисколько не поменявшийся с тех пор, как мы были детьми и я приглядывала за ним, если случалось остаться одним. Теперь, когда мы выросли, он нависает у меня над головой, а я прижимаюсь спиной к его груди, но он не отступает, и я потихоньку начинаю опираться на него всем телом.
– Значит, завтра? – интересуется мать.
– До обеда, – подтверждает Неллина. – В кондитерской.
– Пожалуй, нет, – отцовский голос звучит куда тише. – Я этого не хочу.
– Хочешь, не хочешь, а выбора нет: воду варить – вода и будет!
– Неужели нам собственными руками придётся её этому проходимцу отдать? – пытается возразить он.
– Долго ты ещё в облаках витать собираешься? Может, пора на грешную землю спуститься? – вопит мать, и деревянная столешница стонет под ударом кулака. – Мир как стоял, так и стоит...
– Договориться вам нужно, Сальво, – поддакивает экономка. – Вот и дон Иньяцио говорит...
– А напомни-ка мне, Неллина, – перебивает отец, – сколько у дона Иньяцио дочек?
Неллина не отвечает, зато мать обрушивается на него громче прежнего:
– На мою беду, видать, на позорище ты на белый свет родился!
– Помолчи, Амалия, – невозмутимо отвечает он. – Я ведь это к тому, что не знаешь сам – так и в спор не лезь.
– А с тобой спорить – только время тратить: что ночку потеряешь, что дочку! Мы ведь, кроме Неллины, ни от кого за все эти годы помощи не дождались, и ты за её добро такими словами платишь?
– Пойми, Сальво, – снова звучит голос Неллины, – будь какой другой способ... да только всё, что можно было сделать, уже сделано. Мать Франко после случившегося своё согласие отозвала, и кто, скажи, станет её винить? Но теперь, ради блага твоей семьи, и твоего блага тоже... Ты ведь не станешь добиваться справедливости в одиночку, особенно после того, что с тобой в прошлом году стряслось? Или, может, хочешь опять пластом лечь?
Козимино вздрагивает: должно быть, ему тоже вспоминается вечер, когда отец, как мы думали, пошёл угостить обидчика парой выстрелов из лупары, но приступ едва не отправил его в мир иной.
– Справедливости? – едва слышно переспрашивает отец. – Справедливость – это дело другое.
С этого момента никто больше не кричит, так что до нашего уха доносятся только отдельные слова: свадьба, платье, дом... Мы с Козимино отходим от двери, и брат, схватив меня за руку, заглядывает мне в глаза.
– Давай я сам к нему схожу, объясню, как мир устроен, – говорит он взрослым, мужским баском, прорезавшимся у него всего пару месяцев назад.
– Нет, Козимино, – отвечаю я, мотая головой из стороны в сторону. – Ни ты, ни папа. Это моё дело, женское.
Спать мы ложимся, так ничего и не узнав. И только проснувшись, когда ночь ещё глубока, я, кажется, вижу в дверном проёме силуэт матери: она стоит, прислонясь к косяку, и глядит на меня. Но веки тотчас же наливаются тяжестью, и смутный образ исчезает.
48.
На улице темно, но отец уже в кухне, на нём резиновые сапоги и шляпа.
– Ты где её нашёл? – спрашиваю.
– Купил новую.
– Лучше бы дочь новую купил.
Отец, присев на край табурета, стягивает шляпу и принимается крутить её в руках, оглядывая со всех сторон.
– На сегодня встреча назначена, – говорит он лениво, словно о безделице какой. – Хотят нас задобрить, миром дело решить.
Права была Анджолина: раз он меня взял, то жениться должен. Не то быть мне старой девой. Или крашеной блондинкой, вроде неё самой.
Я гляжу на отца: не похоже, чтобы он был в гневе.
– Каким ещё миром? – спрашиваю. А сама в халат кутаюсь.
– Это тебе лучше знать.
– А ты, значит, хочешь меня этому отдать?
Его руки дрожат, новая шляпа падает на пол. Я подхожу ближе, поднимаю, кладу ему на колени. Отец сидит сгорбившись, понурив голову, будто мешок на плечи взвалил.
– Я, Оли, лупары-то и в руках не держал. Это ж пачкаться, а я люблю, когда у меня руки чистые. Кровь за кровь – цепочка без конца тянуться будет.
Говорит отец редко, всё больше загадками. Зато и правил, как мать, не устанавливает.
– Знаешь, я ведь шестнадцати лет осиротел: дед твой как-то поутру вышел на лодке в море и не вернулся, а бабушка сердцем слаба была: году не прошло, Богу душу отдала, – продолжает он. – Мы с меньшим братишкой одни выросли. Нитто совсем ещё юным семью завёл, самую красивую девушку в городе в жёны взял. Да только через пару месяцев нашептали ему: невеста, мол, чести не соблюла. Раз сболтнули, другой, кровь закипела, повздорили, он ей лицо и попортил. А она в родительский дом вернулась и на следующий день брата прислала. Нож на нож, и вот Нитто в луже собственной крови лежит. Отца у нас не было, пришлось вопрос чести в свои руки брать, вот я и пошёл искать, кто братишку убил.
На какой-то миг отец снова, как в детстве, кажется греческим богом, который идёт, расцелованный солнцем, мне навстречу через поля.
– Только по дороге перехватил меня друг детства, Пиппо Витале, что в карабинеры подался. И оружие отобрал, и самого запер на две ночи, проспаться на холодке. А как выпускать пришёл, сунул мне опять двустволку в руки и говорит: «Это твоя. Нужна ещё?» – «Пожалуй, нет», – отвечаю. Я ведь шёл её брата убить, потом их отец убил бы меня, и так далее, и так далее, и никогда бы это не кончилось. В общем, если я нынче и могу надеть на голову шляпу, то лишь благодаря Пиппо Витале, поскольку, находясь в паре метров под землёй, это непросто, – заключает он и чуть раздвигает губы, изображая улыбку.
Я, отвернувшись к окну, гляжу на пока ещё безлюдную улицу. Значит, решим всё миром, я выйду за него замуж, со мной опять начнут здороваться на улице. Но что же мне делать потом? Как ни в чём ни бывало срисовывать в тетрадки портреты кинозвёзд? И облака снова станут принимать форму морленей? И я смогу радостно обрывать лепестки у ромашек?
– А где теперь твой друг карабинер?
– На посту, как всегда.
Он просто обязан будет на тебе жениться, сказала Анджолина, не то прямая дорога ему за решётку.
– Может, пойдём пособираем баббалучей, пока не рассвело? – предлагает отец.
– Мама не велит. Говорит, я уже не ребёнок.
– Для меня ты всегда будешь ребёнком.
Я наскоро собираюсь, он надевает шляпу, и с первым лучом солнца мы уже выходим из дому.
49.
С поля мы возвращаемся с полными вёдрами. Козимино успел сбрить бороду, оставив, как теперь принято у парней, только усики. Мама, увидев, что мы идём, разводит под кастрюлей огонь. Волосы у неё накручены на лоскутки, чтобы получились кудряшки.