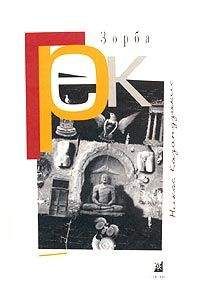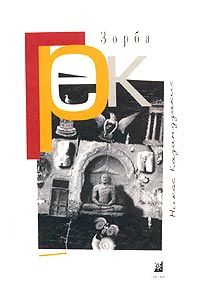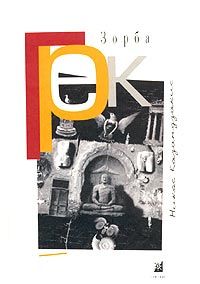Я, грек Зорба (Невероятные похождения Алексиса Зорбаса) - Казандзакис Никос
Зорба глубоко надвинул свою большую зимнюю шапку.
— Хорошо, — сказал он огорченно, — идем! Но я очень хочу тебе сказать, что Господь Бог был бы гораздо больше доволен, если бы ты, как архангел Гавриил, сходил сегодня вечером к вдове. Если бы Господь Бог следовал тем же путем, что и ты, хозяин, он бы никогда не навестил деву Марию, и Христос никогда бы не родился. Если бы ты меня спросил, по какому пути идет Господь Бог, я бы тебе ответил: по тому, который ведет к деве Марии, а Мария нынче — это вдова.
Зорба замолчал, напрасно ожидая ответа, затем с силой толкнул дверь и мы вышли; кончиком своей палки он нетерпеливо бил по гравию.
— Да-да, — упрямо повторил он, — дева Мария — это вдова!
— Идем же, — сказал я, — и не кричи!
Мы шли в зимней ночи хорошим шагом, небо было необычайно чистое, звезды, большие и низкие, сверкали, наподобие огненных шаров, подвешенных в воздухе. Мы шли берегом и казалось, что ночь ревела, словно большой черный зверь, вытянувшийся вдоль бушующего моря.
«Начиная с этого вечера, — говорил я себе, — свет, который зима загнала в тупик, начинает понемногу брать верх. Он как бы родился в эту ночь вместе со святым младенцем».
Все жители деревни столпились в теплом, наполненном благовонием, церковном улье. Впереди были мужчины, сзади, со скрещенными на груди руками, женщины. Отец Стефан, высокий, ожесточенный постом, длившимся сорок дней, в тяжелом золоченом облачении мелькал то здесь, то там, помахивая кадилом; он пел во весь голос, торопясь увидеть рождение Христа и поскорее уйти к себе, чтобы наброситься на жирный суп, колбасу и копченое мясо.
Если сказать: «Сегодня день начинает прибывать», — эта фраза не взволнует сердце человека, не потрясет наше воображение, а лишь обозначит обычный физический феномен. Но свет, о котором я говорю, родился посреди зимы, стал младенцем, младенец — Богом и вот уже двадцать веков наша душа хранит его у своей груди и вскармливает молоком.
Почти сразу после полуночи мистическая церемония подошла к концу. Христос родился. Жители деревни, изголодавшиеся и радостные, заторопились к себе, чтобы приступить к пиру и почувствовать всеми глубинами своего чрева тайну воплощения. Живот служит прочной основой: хлеб, вино и мясо прежде всего, только с их помощью можно создать Бога.
Огромные, наподобие ангелов, звезды сверкали над белоснежным куполом церкви. Млечный путь, словно большая река, протекал из одного конца неба в другой. Над нами поблескивала зеленая, как изумруд, звезда. Охваченный волнением, я глубоко вздохнул. Зорба повернулся ко мне:
— Хозяин, ты веришь, что Бог стал человеком и что он родился в стойле? Ты веришь этому или же тебе на все наплевать?
— Мне трудно тебе ответить, Зорба, — сказал я, — я не могу утверждать, что я в это верю, и тем более — что не верю. А ты?
— И я тоже, честное слово, не знаю, как теперь быть. Когда я был совсем маленьким, то не верил в бабушкины сказки про фей и, однако, дрожал от волнения, смеялся и плакал точно так же, как если бы я в них верил. Когда же у меня начала расти борода, я забросил все эти истории и даже смеялся над ними. И вот теперь, когда пришла ко мне старость, я, хозяин, расслабился, и снова в них верю… Какой забавный механизм — человек! Мы направились по дороге к дому мадам Гортензии и ускорили шаг, словно изголодавшиеся лошади, почуяв конюшню.
— Они весьма хитры, эти священнослужители! — сказал Зорба. — Они берут тебя через желудок; и как ты избежишь этого? В течение сорока дней, говорят они, ты не должен есть мясо, не должен пить вино: пост. А зачем? Для того чтобы ты начал изнывать без вина и мяса. Ах! Эти толстозадые, они знают все ухищрения!
Мой спутник ускорил шаг.
— Поторопись, хозяин, — сказал он, — индейка должно быть уже готова.
Когда мы вошли к нашей доброй даме в ее маленькую комнату с большой кроватью искушения, стол был накрыт белой скатертью, индейка дымилась, лежа раздвинутыми лапками вверх, от разожженной жаровни исходило мягкое тепло.
Мадам Гортензия накрутила локоны и надела длинный выцветший розовый халат с широкими рукавами и обтрепанными кружевами. Желто-канареечная лента, шириной в два пальца, стягивала в этот вечер ее морщинистую шею. Она побрызгала под мышками туалетной водой с запахом флердоранжа.
«Насколько гармонично все на этом свете! — думал я. — Насколько все совершаемое на земле совпадает с трепетом человеческого сердца! Взять эту старую певичку, которая вела беспорядочный образ жизни; брошенная теперь на уединенном берегу, она воплощает в этой нищенской обстановке всю святость и теплоту женщины».
Обильный и тщательно приготовленный обед, горящая жаровня, украшенное и накрашенное тело, запах флердоранжа — с какой простотой и быстротой все эти обыкновенные, но настолько человечные, плотские удовольствия превращаются в огромную душевную радость.
Внезапно глаза мои наполнились слезами. Я почувствовал, что в этот торжественный вечер я был не одинок здесь, на берегу пустынного моря. Навстречу мне двинулось создание, полное жертвенности, нежности и терпения: это была мать, сестра, жена. И я, полагавший, что ни в чем не испытываю нужды, вдруг почувствовал, что мне многого стало недоставать.
Зорба, должно быть, тоже испытывал такое же сладостное возбуждение, едва мы успели войти, как он сжал в объятиях принарядившуюся и намалеванную певицу.
— Христос воскресе! — воскликнул он. — Поклон тебе, женщина! — Смеясь, он повернулся ко мне.
— Взгляни-ка на это хитрое создание, которое зовется женщиной! Ей удалось окрутить самого Господа Бога!
Мы сели за стол и набросились на приготовленные блюда, выпили вина; наши тела почувствовали удовлетворение, а души млели от удовольствия. Зорба вновь воспламенился.
— Пей и ешь, — кричал он мне каждую минуту, — ешь и пей, хозяин, веселись. Пой и ты, парень, пой, как поют пастухи: «Слава всевышнему!..» Христос Воскресе, это не какой-то там пустяк. Давай свою песню, чтоб Господь Бог тебя услышал и возликовал! Он завелся, вновь обретя воодушевление.
— Христос Воскресе, мой бумагомаратель, мой великий ученый. Не мелочись: родился-таки он или не родился? Эх, старина, он родился и не будь идиотом! Если ты возьмешь увеличительное стекло и станешь рассматривать воду, которую пьют — это мне сказал один инженер, — ты увидишь, что вода кишит червями, совсем маленькими, которых не видно невооруженным глазом. Ты увидишь червей и не станешь пить. Не будешь пить и подохнешь от жажды. Так разбей это стекло, хозяин, разбей его, чтобы черви тотчас исчезли, и ты смог пить и освежиться!
Он повернулся к нашей разнаряженной подруге и, подняв полную рюмку, сказал:
— Моя дорогая Бубулина, моя боевая подруга, я поднимаю этот бокал за твое здоровье! В своей жизни я видел немало женских фигур» прибитых гвоздями на носах кораблей, они поддерживают руками свою грудь, их губы и щеки выкрашены в огненно-красный цвет. Они пересекли все моря, входили во все гавани, а когда корабль сгнивал, их спускали на берег, где они оставались до конца своих дней прислоненными к стене какого-нибудь портового кабачка, куда приходят выпить капитаны.
Моя Бубулина, в этот вечер, когда я вижу тебя на этом берегу, теперь, когда я плотно поел и хорошо выпил, ты мне кажешься фигурой с носа огромного корабля. Я же — твоя последняя гавань, мой цыпленок, я — то т кабачок, куда приходят капитаны выпить вина. Иди же, прислонись ко мне, опусти паруса. Я пью этот стакан вина, моя сирена, за твое здоровье!
Мадам Гортензия, взволнованная и потрясенная, разревелась на плече у Зорбы.
— Вот увидишь, — шепнул мне на ухо Зорба, — из-за этих красивых слов у меня начнутся неприятности. Эта шлюха не позволит мне уйти сегодня вечером. Но что ты хочешь, мне жаль ее, бедняжку, да! Мне ее очень жаль!
— Христос Воскресе! — громогласно приветствовал он свою сирену. — За наше здоровье!
Зорба просунул свою руку под руку доброй дамы, и они залпом выпили свое вино на брудершафт, с восторгом глядя друг на друга.