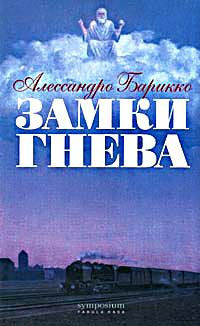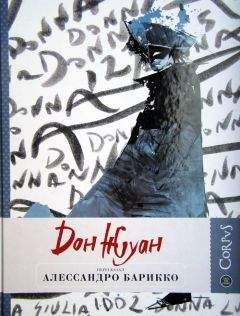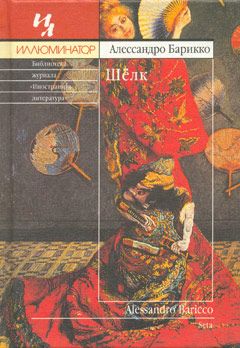Юная Невеста - Барикко Алессандро
Я оглянулся вокруг. Вещи, порядок, полумрак. «Логово маньяка», – сказала Л. Немного преувеличивая, как всегда. И все-таки.
Возможно ли, чтобы я кончил вот так?
Время от времени – все, наверное, замечали – каждому приходит на ум: возможно ли, чтобы я кончил вот так?
Я, со своей стороны, давно уже об этом не думал. Перестал задавать себе вопросы. Когда скользишь вниз, не слишком-то это замечаешь, боль оглушает тебя, вот и все.
Но в тот момент я подумал: Возможно ли, чтобы я кончил вот так? – и мне стало ясно, что, каким бы ни было мое жизненное предназначение, определенно неподходящим был свет, в котором я надеялся его распознать, так же как и абсурдным ландшафт, в который я позволил ему войти, и безумной – неколебимость, какую я приберег для его ожидания. Все было неправильно.
По поводу оборота, какой принимают мои дела, я себе не позволяю суждений. Но что до антуража, тут я могу свое мнение высказать.
Я не умру ночью, я это сделаю при свете солнца.
Вот что мне хотелось высказать.
Если честно, я никогда не ожидал такого взрыва решимости, и до сих пор меня изумляет, что породила его фраза, прочитанная в книге (то, что речь идет о моей книге, – подробность, несомненно, довольно тягостная). Могу сказать только, что я воспринял фразу буквально – я не умру ночью, я это сделаю при свете солнца – поскольку мне уже давно не хватает сил, или воображения, чтобы представить что-либо символически, чего, без всякого сомнения, стал бы добиваться от меня Доктор (он, между прочим, еще и решил, будто я ему должен двенадцать тысяч евро), определенно подталкивая меня к тому, чтобы интерпретировать понятие свет как новое расположение духа, а понятие ночь как проекцию моих слепых и призрачных видений: муть зеленая, вот что это такое. Я принял более простое решение – поскольку, как я уже сказал, мне не хватает ни сил, ни воображения для чего-то другого – именно: поехать на море. Нет, не совсем так – не вовсе уж я без сил и без воображения, в конечном итоге. Но что правда, то правда: вместо того чтобы вообразить себе уж не знаю что, мне только и удалось вернуться к одному давнему утру и к парому, который под зимним солнцем меня перевозил на остров. Дело было на юге. Кораблик плыл лениво по спокойному морю. Если сесть на палубе с правильной стороны, солнце будет светить в лицо, но февральским утром сидеть на солнце было правильно, вот и все. Приглушенный рокот мотора успокаивал.
Он до сих пор, наверное, плавает, сказал я себе. Имея в виду паром.
Оставалось воссоздать кое-какие подробности, которые пока от меня ускользали (к примеру, что за остров?); но, разумеется, речь шла о преодолимых препятствиях, и по этой причине, с решимостью, которая и сейчас меня изумляет, я поднялся с дивана, чтобы сесть на паром, прекрасно сознавая, насколько неопределенно длинный ряд жестов следует выполнить ради перемещения с одного на другой (удивительно, напротив, как в формальной простоте написанной фразы диван и паром связаны между собой практически неразрывно: отсюда следует главенство письма над жизнью, что я не устаю повторять). Помню, я попрощался со своей квартирой минут за двадцать – скорее, в общих чертах, как с системой частичных достоверностей и – бесповоротно – с организованными потемками, где я себя похоронил. Если бы существовала идея о небытии, которое можно, и даже нужно, разрушить до основания, мы не теряли бы столько времени, выстраивая стратегическую защиту против жизненных напастей. Времени хватило на то, чтобы выбрать немногие предметы, которые я бы взял с собой, – мне пришло на ум число одиннадцать. Значит, одиннадцать предметов – выбирать их было наслаждением. В то же самое время, в очень похожей последовательности, Семейство, у меня в голове, плыло под парусами к отъезду на курорт, движением широким и сплоченным, которое потом было так приятно закреплять на письме, направлять по четко проложенной тропке слов в крохотной гостинице, первой по дороге на юг, первой ночью после вечности. Поскольку следовало расположить предметы в должном порядке, я прежде всего вспомнил, что курорт для них для всех являлся докучной привычкой, которая выливалась в пару недель, проведенных во французских горах: точно где, не знаю, но, кажется, уже упоминал, что обыкновение это всеми воспринималось как обязанность, а следовательно, переносилось с элегантным смирением.
Чтобы свести к минимуму докуку, прибегали к прозрачным уловкам; самая любопытная заключалась в том, чтобы не собирать чемоданы, а покупать на месте все необходимое. Единственным, кто имел баулы и упорно использовал их, был Дядя, которому нравилось таскать за собой, не прибегая к бесплодным полумерам, все свое имущество. Баулы Дядя собирал сам: поскольку он это делал во сне, процедура могла растянуться на долгие недели. Все остальные, наоборот, принимались за дело в утро отъезда, набивая предметами сомнительной необходимости маленькие сумки, которые потом нередко забывали. Кое-что оставалось неизменным: Мать, например, никогда не уезжала, не прихватив с собой подушку, открытки, которые в предыдущих путешествиях не успела отправить; мешочки с лавандой и ноты французской песенки, где не хватало последней страницы. Отец обязательно вез с собой учебник игры в шахматы; Дочь – альбом и масляные краски (по неким таинственным причинам она всегда забывала дома все тона синего и голубого). Сын, в то время, когда он еще не исчез, разбирал часы, стоявшие на лестнице, и вез с собой детали, предполагая в каникулы снова их собрать. Общая сумма подобного скопления предметов давала умеренное количество багажа и некоторый общий итог сожалений: часто оказывалось необходимым оставить дома драгоценные фрагменты всеми разделяемого безумия.
Домом занимался Модесто. В этом тоже хранили верность протоколу, разумность которого, если таковая существовала, коренилась в глубоком, уже необъяснимом прошлом. Вся мебель покрывалась льняными простынями, кладовки набивались пригодными для хранения съестными припасами, закрывались ставни на всех окнах, кроме южной стороны; сворачивались ковры; картины снимались со стен и складывались на пол (этому была какая-то причина, но давно позабылась); часы останавливались, во все вазы ставились желтые цветы, накрывался стол для завтрака на двадцать пять персон; снимались колеса со всего, что могло катиться, и выбрасывалась вся одежда, которую за последний год ни разу не надевали. С особым тщанием исполнялся бесценный ритуал, состоявший в том, чтобы оставить, рассеять по дому некие прерванные жесты: вроде твердой гарантии того, что каждый вернется, дабы завершить движение. Поэтому комнаты, после отъезда Семейства, предлагали внимательному взгляду целую россыпь действий, брошенных на середине: намыленная кисточка для бритья; партия в карты, брошенная на самом пике азарта; тазы, полные воды; наполовину очищенные фрукты; недопитая чашка чая. На пюпитре фортепьяно обычно стояли ноты, раскрытые на предпоследней странице, а на письменном столе Матери всегда оставалось недописанное письмо. В кухне на стене висел список покупок, на первый взгляд крайне срочных; в ящиках валялись незаконченными прелестные вязанья крючком, а на бильярдном столе оставалась брошенной прекрасная комбинация для великолепного удара, почему-то отложенного. В воздухе, если бы возможно было их различить, витали наполовину продуманные мысли, незавершенные воспоминания; иллюзии, не доведенные до совершенства, и стихотворения без последней строки: предполагалось, будто сама судьба могла бы все это увидеть. Картина завершалась тем, что в самый момент прощания добрая доля багажа забывалась в коридорах – жест тягостный, но считавшийся окончательным. В свете подобной самоотверженности сама мысль о том, что кто-то рискует не вернуться домой из поездки, казалась оскорбительной.
Такое тщание, такие заботы, несомненно, требовали времени. И Семейство начинало готовиться к отъезду заранее, ненавязчиво подчиняя ежедневный ход вещей цели, обозначенной как ДЕНЬ ОТЪЕЗДА. На практике это означало, что каждый занимался точно тем же, чем прежде, но придавая каждому жесту сугубую бренность, порождаемую надвигающимся прощанием, и убирая из мыслей малейший намек на драматизм, бесполезный в преддверии близящейся духовной амнистии. Только Дядя, как уже говорилось, затевал широкомасштабный труд (собирал баулы). Для остальных неотвратимое приближение ДНЯ ОТЪЕЗДА становилось ощутимым благодаря лихорадочной деятельности прислуги, этого спрута, голову которого представлял Модесто, а щупальца – слуги помельче рангом. Согласно распоряжению, все проделывалось с великим изяществом и без ненужных колебаний. Поскольку, например, согласно необъяснимому обыкновению, все подушки в доме собирались и складывались в один шкаф, вы в крайнем случае видели, как из-под задницы вытаскивается, с определенным шиком, тонкая думочка, из тех, что подкладывались на кожаные сиденья стульев, расставленных вокруг стола для завтраков: коснись это тебя, ты даже не прервешь беседы, просто чуть-чуть приподнимешься, будто по внезапной и срочной необходимости выпустить газы, и позволишь слугам исполнить их долг. Таким же образом у тебя из-под носа могли увести сахарницу, ботинки или, в особо драматических случаях, целые помещения: ты обнаруживал вдруг, что проход по лестницам закрыт. Так, пока его обитатели продолжали откладывать срок ждущей их перемены, помещая ДЕНЬ ОТЪЕЗДА в ближайшее будущее неопределенных очертаний, Дом, напротив того, неудержимо двигался к цели, отчего образовывалось нечто вроде двух скоростей – для духа одна, для предметов другая – и покойное течение дней раскалывалось, допуская сюрреалистические сдвиги. Люди, не моргнув глазом, сидели за столами, которых больше не было на месте; гости опаздывали на трапезу, которая еще и не начиналась; зеркала, сдвинутые с места, отражали то, что происходило несколько часов назад; звуки, оставшиеся в воздухе, осиротевшие, потерявшие свой источник, блуждали по комнатам, пока Модесто не умудрялся затолкать их, временно, в ящики, которые помечал потом крестиком красного лака (по возвращении их часто забывали освободить, предпочитая делать это, шутки ради, во время Карнавала: иногда в присутствии друзей и знакомых, которые с опозданием подбирали какую-нибудь фразу или звук, исходящий из тела, ими же и потерянные прошлым летом. Адвокату Сквинци, например, удалось отыскать свою прошлогоднюю отрыжку в ящике, где, на удивление, он нашел также истерический смех супруги и начало градобития, из-за которого в свое время взлетели до небес цены на персики. Дон Джустелли, душа-человек, с которым мне повезло знаться и дружить, признался мне однажды, что охотно присутствовал при открытии ящиков, чтобы пополнить запас ответов. «Знаете, их там целая уйма, в ящиках, – сказал он мне. – Я теперь убедился, – пояснил он, – что в период, предшествующий ДНЮ ОТЪЕЗДА, многие ответы в этом доме теряются во время беседы, поскольку на них обращают меньше внимания (иногда никакого внимания), – так они и пропадают. В воздухе они оставались, это все знали; а потом попадали в пресловутые ящики. Обычно, – добавлял дон Джустелли, – к февралю у меня заканчивается набор ответов, так что вы понимаете, насколько удобно пойти и пополнить запас из этих самых ящиков, к тому же не потратив ни гроша. Все ответы превосходного качества», – подчеркивал он. В самом деле, когда он соизволил мне иные продемонстрировать, я вынужден был признать, что их формальный уровень был почти всегда выше среднего. Встречались среди них блистательно синтетические – Никогда, навеки; попадались и наделенные неким музыкальным изяществом – Не из мести, но, может быть, от изумления, а скорее всего, случайно. Правда, я лично находил такие ответы душераздирающими. Сам факт, что их уже нельзя было связать с каким-либо вопросом, был со всей очевидностью нестерпим. И не только у меня возникала эта проблема. Несколько лет назад младшая дочь Баллардов, в ту пору двадцати лет, явилась на открытие ящиков, чтобы вновь обрести гитарный звон, заставивший ее мечтать прошлым летом, но так и не смогла его найти, ибо увязла, прокладывая себе путь между звуками, в некоем ответе, который и унесла домой вместо гитарного звона, предугадывая с абсолютной уверенностью, что, если она не найдет вопрос, на который дан был этот ответ, у нее попросту лопнет голова. Следующие тринадцать месяцев она без устали опрашивала десятки человек с единственной яростной целью: найти тот самый вопрос. Тем временем ответ, угнездившись у нее в мозгу, наливался блеском и тайной. На четырнадцатый месяц она начала писать стихи, а на шестнадцатый у нее лопнула голова. Сраженный горем, ее отец пожелал понять, что ее погубило. Любопытно, думал он, почему такую умную девушку подкосило исчезновение вопроса, но не жестокость ответа. Поскольку то был человек в высшей степени практичный и блистательно здравомыслящий, он, не поддаваясь горю, отправился к Модесто и спросил, не слышал ли тот когда-нибудь вот такой ответ.