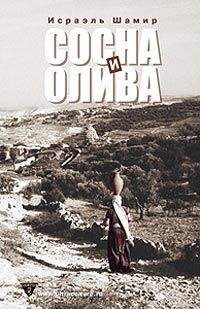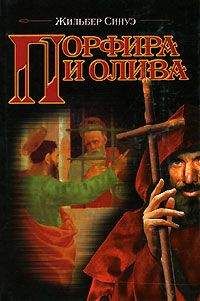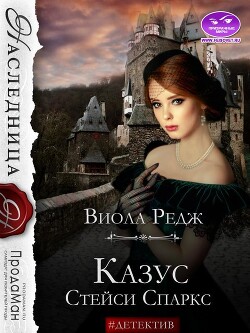Олива Денаро - Ардоне Виола
Я мотаю головой.
– Да потому что она так и осталась в воде гнить. Вместе с помидорами, зеленью и всем прочим, что у меня в огороде росло, – отец ненадолго замолкает, прежде чем продолжить. При этом выражение его лица нисколько не меняется, словно он рассказывает, что ел на завтрак. – Ну, я и пошёл без шляпы. Но мне стало досадно. И вот ведь странная штука, чем дальше я уходил, тем сильнее досадовал, только поводы были разные: то волдырь на левой ноге, то колченогий стул в кухне, то разболтавшееся колесо у тачки, то вот свадьба твоя отложенная. Ну, я и решил всё исправить – от чистого сердца же. Обработал ногу, починил стул, поправил колесо и пошёл одеваться.
Автобус тормозит, но водитель снова объявляет другую остановку.
– Если что где не работает, – продолжает отец, едва мы трогаемся, – значит, надо постараться это исправить.
Я в жизни не слышала, чтобы он столько говорил. Похоже, вечное молчание тоже стало ему досаждать. Или, может, язык у него развязывается только в автобусе, когда слова от тряски сами сыплются с языка.
– Знаешь, человека, который хозяйство моё погубил, мне даже поблагодарить стоит. Не будь я так раздосадован, не сказал бы себе: Сальво, этот брак либо будет заключён прямо сейчас, либо не будет вовсе, и тогда твоя дочь попадёт в переделку, – тут он отрывается от мелькающих за стеклом пейзажей и переводит взгляд на меня. – Ты ведь ещё хочешь за Франко?
Я молча разглядываю свои руки в поисках ответа.
Потом автобус останавливается, и водитель выкрикивает название столичной автостанции.
36.
Клумбы перед входом в церковь просто усыпаны ромашками. Я слышу окрик матери, успевшей уйти чуть вперёд, но всё же успеваю сорвать цветок и принимаюсь гадать: любит, не любит, любит, не любит, любит, больше не любит. Наконец отрываю последний: соврал, он всё ещё меня любит!
Франко, как и обещал его серолицый дядя, жил напротив оперного театра. Отец взял меня под руку, и мы вошли в вестибюль. Так вот, значит, что должно было стать мне домом, думала я, поднимаясь по лестнице. Дверь нам открыла девушка, моя ровесница: бледная, хрупкая, светловолосая, она вполне могла сойти за дочь моего отца. У меня от зависти даже ком подкатил к горлу.
«Синьоры сегодня не принимают, – поспешила сообщить она. – Зайдите на следующей неделе».
«Спасибо, но, пожалуй, нет», – ответил отец, не двинувшись с места.
– Итак, чего ты хочешь? – спрашивает мать. – Обычно заказывают флёрдоранж, но ты можешь на свой вкус выбрать.
Я изучаю прилавок, не в силах определиться: не привыкла знать, чего хочу.
– У нас есть розы, пионы, каллы, жасмин... – подсказывает цветочник.
– Только не жасмин, Бьяджо, – говорю я, сразу вспомнив сладковатый запах заложенной за ухо веточки, белые брюки, перепачканные апельсиновой мякотью, свист с улицы, глаза, следившие за мной, руки, прижимавшие на празднике, и голос в кондитерской, заставивший меня вздрогнуть. – Мне бы хотелось ромашки.
– Ромашки? Да ведь это полевые цветы, разве ж они для свадьбы? Что скажете, Бьяджо?
Кажется, мы с отцом ждали за дверью целую вечность.
«Мне стыдно, па», – заскулила я наконец.
«Мне тоже поначалу было стыдно. Из-за шляпы, – пожал плечами отец, приглаживая волосы. – А потом я сказал себе: Сальво, не по своей воле входишь ты в дом этих синьоров с непокрытой головой. Так чего же тебе стыдиться? Стыдно должно быть тому, кто испортил твою шляпу. И этим вот синьорам, которые боятся, как бы их вещички тоже кто-нибудь не испортил».
Последние слова он произнёс, нарочито медленно и громко, чтобы их услышали, как раз в тот момент, когда горничная-блондинка объявила: «Можете войти».
Пройдя через прихожую, мы оказались в большой зале, где нас уже встречала весьма элегантная дама, за которой скрывался мужчина, низенький и лысый.
– Флёрдоранж подойдёт, – уверенно заявляет мать цветочнику. – А ромашками украсим причёску. Ты счастлива, Оли?
Счастлива ли я? Сегодня мне шестнадцать, и на следующей неделе я выхожу замуж. Через год Лилиана станет учительницей, а городская газета уже купила несколько её фотографий. Я не сомневаюсь, что счастлива. Похоже, это вообще единственный способ быть счастливой.
– На сегодня тоже нужны цветы. У неё же день рождения, – мать двумя пальцами приподнимает мой подбородок, словно демонстрируя нечто ценное. Похоже, ценность женщины зависит от мужчины, который просит её руки.
– Что до цветка на день рождения синьорины, пусть это будет мой подарок... Если, конечно, позволите, – и Бьяджо, протянув мне алую розу на длинном стебле, разводит руками: – У нас без обману.
«Приятно видеть, что синьора снова в добром здравии», – проговорил отец обычным невозмутимым голосом. И в этих словах не было ни гнева, ни иронии.
«Милостью Господа нашего», – молитвенно сложив руки, скривилась мать Франко, отчего заметнее стали морщинки возле глаз.
«Что ж, я этому только рад, – продолжал отец. – Смею надеяться найти Вас столь же крепкой и в день свадьбы, о котором было условлено».
Синьора поджала губы, словно не желая выпускать наружу слова, теснившиеся на языке.
«Здоровье моё, – пробормотала она наконец, – подорвано тревогами и печалями, что меня терзают, и особую боль мне причиняет зародившаяся в последнее время дружба между нашими детьми. Для меня очевидно, что ввиду разницы в происхождении взаимопонимание между двумя семьями затруднено. И если вы уже пообещали свою дочь другим, несправедливо, что расплачиваться за это должны мы. Я не имею обыкновения выпроваживать посетителей, и всё же должна со всей любезностью попросить вас покинуть мой дом», – тут она на миг возвела глаза к небу, после чего смерила отца недовольным взглядом, словно подчёркивая его ничтожность. Лысый муж помалкивал – вероятно, по привычке.
– Осторожнее с шипами, – предупреждает мать. Мы идём через площадь, приковывая к себе взгляды, но на сей раз за спиной никто не шушукается: в этих взглядах восхищение, и мне впервые в жизни кажется, будто мать мною гордится.
«Я, со своей стороны, имею обыкновение держать данное слово, – ответил синьоре отец. – Франко обещал жениться на моей дочери. Если он передумал, то должен сказать это сам».
Франко вошёл в гостиную бледный, взъерошенный, в домашней светло-коричневой куртке и мягких кожаных туфлях. Теперь он вовсе не напоминал «красавчика Антонио» – скорее кого-то из кинозвёзд категории «несчастных влюблённых».
Меня подвели к нему.
«Франко...», – я закрыла глаза, ожидая, что его пальцы, как в тот, первый день за сараем Пьетро Пинны, коснутся моего лица. Но он, сунув руки в карманы куртки, молчал, даже не двигался.
Неужели это и есть та колонна, что должна была стать мне опорой? Те руки, что должны были удержать?
«Пойдём, па», – пробормотала я, направляясь к двери.
«Олива, подожди, – за спиной послышалось шарканье туфель. – Моя мать, как видите, выздоровела, – дрогнувшим голосом прошептал Франко. – Других препятствий нет».
Больше он ничего не добавил. Слова любви, вздохи, взгляды существовали только в Лилианиных журналах. Права была мать, не желая держать их в доме.
Возвращаясь тем же автобусом, мы всю дорогу молчали: на сей раз отец не позволил тряске развязать свой язык. Он поглядывал в окно и время от времени дремал, склонив голову мне на плечо. Досадовать было не на что: жених вернулся. Теперь не хватало только шляпы.
– Оли, я вот что вспомнила: нужно зайти к синьоре Шибетте, она снова за мной послала, говорит, работа срочная, – мать, остановившись на полдороге, поправляет мне выбившуюся из косы прядь и разворачивается. – Прибавь-ка шагу, мигом обернёмся.
– Брось, ма, – отвечаю я, – ступай лучше к Шибетте сама. А я домой.