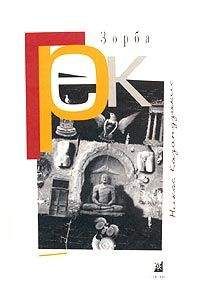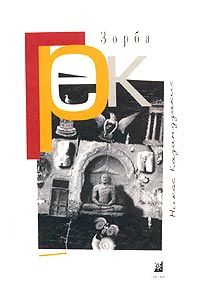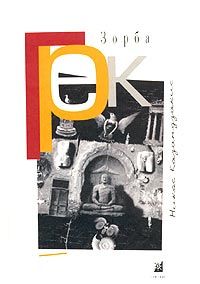Я, грек Зорба (Невероятные похождения Алексиса Зорбаса) - Казандзакис Никос
— Однажды, войдя в дом, я ее не нашел. Она сбежала с красавцем военным, который уже несколько дней как приехал в деревню. Все было кончено! Сердце мое разрывалось, однако рана эта быстро зарубцевалась. Думаю, ты видел такие паруса — с красными, желтыми и черными заплатами, пришитыми толстой ниткой, которые больше не рвутся даже в самую сильную бурю? Мое сердце похоже на них. Тысячи дыр, тысячи заплат: оно больше ничего не боится!
— И ты не злился на Нюсю, Зорба?
— А чего на нее злиться? Можешь говорить, что угодно, но женщина — это нечто непонятное, она не из рода человеческого! Все эти законы — государственные и религиозные — слишком суровы, хозяин, и несправедливы! Так не должно обращаться с женщинами, нет! Если бы я устанавливал законы, я бы никогда не делал их одинаковыми для мужчин и женщин. Десять, сто, тысячу заповедей можно придумать для мужчин. Мужчина есть мужчина, не так ли, он все выдержит. Но для женщины не нужно ни одной. Ибо, ну сколько раз нужно тебе повторять, хозяин, — женщина это слабый пол. За здоровье Нюси, хозяин!
За здоровье женщины. И пусть Бог вразумит нас, мужчин!
Он выпил, поднял руки и разом опустил их, словно отрубил.
— Пусть он вразумит нас, — повторил он, — или же сделает нам операцию. Иначе, можешь мне поверить, все пойдет к черту!
8
Сегодня шел слабый дождь, и небо с бесконечной нежностью припадало к земле. Я вспомнил индийский барельеф из темно-серого камня: мужчина, охваченный негой и покорностью судьбе, сжимал в объятиях женщину, время разъело фигурки настолько, что они стали похожими на двух тесно сплетенных червей, окропляемых мелким дождем, который неспешно и с наслаждением поглощала земля.
Сидя в хижине, я смотрел на потемневшее, с серозелеными всполохами небо. На всем пляже не было видно ни души, ни единого паруса, ни одной птицы. В раскрытое окно проникал лишь запах земли.
Я встал и, словно нищий, протянул дождю руку. Внезапно меня охватило желание плакать. От мокрой земли потянуло какой-то глубокой, странной печалью. Мною овладела паника, какую испытывает беззаботно пасущееся животное, которое вдруг, не видя еще опасности, нюхает неподвижный воздух и не пытается пока скрыться.
Уверенный, что от этого мне станет легче, я готов был закричать, но было как-то стыдно. Небо опускалось все ниже и ниже. Я смотрел в окно; сердце мое тихо трепетало.
Сладострастны и полны печали часы, когда моросит дождь. На ум приходят самые горькие из укрывшихся в сердце воспоминаний — разлука с друзьями, погасшие улыбки женщин, надежды, потерявшие свои крылья наподобие бабочек, от которых остались только тельца, похожие на червей. Один такой червь расположился на моем сердце, как на листе, и точит его.
Постепенно пелена дождя, сеющегося на мокрую землю, вновь навеяла воспоминания о моем друге, находящемся с миссией спасения соотечественников на Кавказе. Я взял ручку и склонился над бумагой, стараясь как бы разорвать сетку дождя, чтобы не задохнуться.
«Мой дорогой, я пишу тебе, находясь на уединенном критском берегу, я договорился с судьбой, что останусь здесь играть в течение нескольких месяцев роль капиталиста, хозяина лигнитовой шахты, делового человека. Если я выиграю, скажу, что это была не игра, а твердое решение круто изменить свою жизнь.
Вспомни, как уезжая, ты назвал меня «бумажной крысой». Тогда, раздосадованный, я решил забросить на время свои бумаги (а может быть, навсегда?) и заняться делом. Арендовал небольшой богатый лигнитом клочок земли с холмом, нанял рабочих, купил кирки, лопаты, ацетиленовые лампы, корзины, тачки, пробил штольни и забился в них. Просто так, чтобы позлить тебя. Поскольку я рыл и строил подземные коридоры, из бумажной крысы превратился в крота. Надеюсь, ты одобришь это превращение.
Радости мои здесь велики, потому что очень просты и сотворены из этих вечных составных частей: чистого воздуха, солнца, моря, пшеничного хлеба. По вечерам необыкновенный Синдбад-Мореход, сидя по-турецки, рассказывает мне о себе, и мир становится шире. Иногда, когда ему не хватает больше слов, он одним прыжком поднимается и танцует. Когда же ему недостает и танца, он кладет на колени сантури и начинает играть.
Порой это довольно дикая песня и чувствуешь себя как бы задыхающимся, ибо вдруг понимаешь, что та жизнь которую ты наблюдаешь, жалка и нелепа, и вообще недостойна человека. Иногда это скорбная песнь и тогда чувствуешь, что жизнь утекает наподобие песка между пальцами и что конец неизбежен.
Кажется, что сердце мое скачет из одного конца груди в другой, словно челнок у ткача. Оно будет ткать свою ткань все эти месяцы, которые я проведу на Крите, и мнится мне — да простит меня Господь! — что я счастлив.
Конфуций сказал: «Многие ищут счастье в областях выше своего уровня, другие ниже. Но счастье одного роста с человеком». Это точно. Существует столько разновидностей счастья, сколько есть различного роста людей. Таково, мой дорогой ученик и учитель, мое счастье сегодня: я с беспокойством меряю и перемериваю его, чтобы знать, какой у меня сейчас рост, ибо, как ты хорошо знаешь, рост человека не всегда одинаков.
Люди, которых я вижу здесь в своем уединении, совсем не кажутся мне муравьями, напротив, они представляются огромными чудовищами, динозаврами и птеродактилями, живущими в атмосфере, насыщенной углекислотой и густой космической пылью. Кругом какие-то непонятные, абсурдные и жалкие джунгли. Понятия «родина» и «раса», столь любимые тобой, как и понятия «сверхродина» и «человечество», соблазнившие меня, уравниваются под всемогущим дыханием тлена. Мы чувствуем, что родились, чтобы сказать несколько слогов, а иногда просто нечленораздельных звуков, одно «а» или «у», после чего мы гибнем. Даже наиболее возвышенные идеи, если вскрыть их нутро, окажутся тоже просто куклами, набитыми опилками, и при желании можно найти спрятанную в этих опилках металлическую пружину.
Ты хорошо знаешь, что эти пессимистические размышления не заставят меня отступить, наоборот, это как бы топливо, необходимое для поддержания моего внутреннего огня.
Ибо, как сказал мой учитель Будда, «я видел», то есть прозрел. И поскольку я «видел» и «слышал» под руководством невидимого режиссера, который был в хорошем настроении и полон фантазии, я могу отныне играть свою роль на земле до конца, то есть последовательно и оптимистично. «Увидев», я тоже стал послушно участвовать в пьесе, разыгрываемой под небесами.
Бросив взор на всемирную сцену, я увидел бы тебя там, в этих легендарных кавказских дебрях, тоже играющим свою роль — роль спасителя нескольких тысяч греков, находящихся в смертельной опасности. Псевдо-Прометей, страдающий от вполне реальных пыток, вступил в битву с темными силами: голодом, холодом, болезнями и смертью. Но иногда ты, гордец по природе, должен возрадоваться многочисленности и непобедимости темных сил: твои деяния, будучи почти безнадежными, становятся вполне героическими, а душа твоя обретает трагическое величие. Жизнь, которую ты ведешь, наверняка кажется тебе счастливой. Раз ты так считаешь, значит, так оно и есть.
Ты тоже нашел счастье по своему росту; и твой рост теперь — хвала Господу! — выше моего. Для настоящего учителя нет большей награды, чем превзошедший его ученик.
Что касается меня, то я бываю рассеян, часто умаляю достоинства идеи, которой привержен, заблуждаюсь, моя вера представляет собой настоящую мозаику чувств; иногда меня охватывает желание поменяться: отдать свою жизнь взамен на одну лишь минуту. Ты же держишь штурвал твердой рукой и не забываешь, даже в самые сладкие из смертных мгновений, что главное в твоей жизни.
Вспомни тот день, когда мы, возвращаясь после учебы в Германии домой, проезжали через Италию. Мы решили вернуться в район Понта, находящийся в то время в опасности, ты вспомнил? В маленьком городке мы в спешке сошли с поезда — у нас был всего один час до прибытия другого. Мы вошли в большой и густой сад около вокзала: деревья с широкими листьями, бананы, камыши темного цвета с металлическим отливом, пчелы, сидевшие на цветущей ветке, которая дрожала от счастья, давая им пищу.