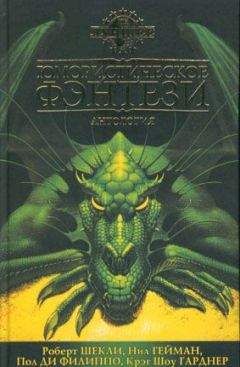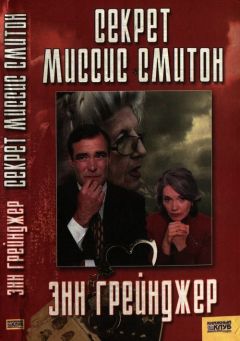Замки гнева - Барикко Алессандро
Закончили они одновременно, — первая на соль, вторая на ля-бемоль. Из окон на улицу неслись звуки пения, и голоса, казалось, доносились издалека. Пекиш назвал эту вещь «Молчание». По секрету сказать, он посвятил ее вдове Абегг. Только она этого не знала.
«Если бы только я могла видеть далеко, — действительно далеко, — вдова Абегг, спустившись утром на кухню, ставит на огонь кофейник, — я бы подумала: тогда я, должно быть, была счастлива». Иногда ей приходили странные мысли, вдове Абегг.
— Послушай… ты хоть представляешь, чем это все кончится?
— Кончится?
— Я имею в виду… зачем ты все это делаешь… и что будет после…
— После чего?
Он вновь закрыл глаза, старик Андерсон. Он устал, безумно устал.
— Знаешь что, Дэн? В конце концов, когда все кончится, здесь не найдется ни одного человека, который бы делал одновременно столько чертовых вещей, как ты.
— Ничего не кончится, Андерсон.
— Да кончится… и ты представить себе не можешь, сколько ошибок ты наделаешь…
— Что ты говоришь, Андерсон?
— Я говорю… я хотел бы сказать тебе… не бросай это никогда.
Он приподнял голову, старик Андерсон, он старался говорить внятно, чтобы все было ясно:
— Ты не такой, как все, Дэн, — ты делаешь столько вещей, и еще сколько держишь в голове, и кажется, тебе всей жизни не хватит все это переделать. Не знаю… мне жизнь сама по себе казалась такой трудной… мне казалось: ее бы прожить, и все. Но ты… кажется, ты хочешь победить ее, эту жизнь, как будто кидаешь ей вызов… как будто ты хочешь одержать над ней блестящую победу… что-то вроде этого. Странно. Это как будто ты сделал много хрустальных бокалов… больших… но рано или поздно какие-то из них разбиваются… а у тебя уже бог знает сколько разбилось, и сколько еще разобьется… И все же…
Не очень-то у него получалось говорить, у старика Андерсона, он скорее бормотал. То и дело какие-то слова выпадали, но мистеру Райлу все было понятно и без этих слов.
— И все же, когда тебе будут говорить, что ты ошибся… когда ты и сам поймешь, что наделал ошибок, не опускай руки. Запомни. Ты не должен опускать руки. Все хрустальные бокалы, которые у тебя разбились, это просто жизнь… ошибки в этом нет… это жизнь, а настоящая жизнь, похоже, всегда дает трещину, эта жизнь в конце концов раскалывается… я понял это, я понял, что мир полон людей, носящих в кармане свои маленькие стеклянные шарики… свои маленькие печальные небьющиеся шарики… в общем, никогда не переставай выдувать свои стеклянные шары… они прекрасны, мне всегда нравилось смотреть в них, всегда — пока я был рядом с тобой… в них столько всего видно… и от этого на душе становится радостно… не бросай это никогда… и даже если однажды они разобьются, это тоже будет просто жизнь, своего рода… прекрасная жизнь.
Мистер Райл держал в руке два хрустальных бокала. С бирюзовой каемкой. По тогдашней моде. Он ничего не говорил. Старик Андерсон тоже молчал. И так, молча, они долго разговаривали в тишине. Наступили сумерки, в комнате стояла кромешная тьма, когда раздался голос Андерсона:
— Прощай, мистер Райл.
Полнейшая тьма, ни черта не видно.
— Прощай, Андерсон.
Старик Андерсон умер — его сердце не выдержало — он умер той же ночью, бормоча одно-единственное слово, четко выговаривая одно слово: «Дерьмо».
той же ночью, бормоча одно-единственное слово: «Дерьмо».
одно-единственное слово.
одно.
И все же,
если, например, можно было бы в одно и то же время, в одно и то же мгновение — если можно было бы одновременно сжимать в руке ледяную ветку, делать глоток водки, смотреть на древесного червя, прикасаться к мускусу, целовать губы Джун, открывать долгожданное письмо, смотреться в зеркало, опускать голову на подушку, вспоминать забытое имя, читать последнюю фразу в книге, слышать крик, трогать паутину, слышать, как кто-то тебя зовет, ронять хрустальную вазу, натягивать на голову одеяло, прощать того, кого никогда не мог простить…
Вот так. Потому что, вероятно, судьбе было угодно, чтобы все эти события случились, одно за другим, прежде чем появился тот человек. Одно за другим, поочередно, но еще и одно в другом. Все это и составляло жизнь.
Поездка мистера Райла, лето — самое жаркое за последние пятьдесят лет, репетиции оркестра, сиреневая книжечка Пента, эти погибшие на фронте, неподвижная Элизабет, красота Морми, первая любовь Пента, тысяча слов, последний вздох старика Андерсона, Элизабет, так и стоящая среди поля, все новые ласки Джун, дни, пролетающие один за другим, восемьсот хрустальных бокалов разной формы, сотни вторников с гуманофоном, седые волосы вдовы Абегг, слезы — настоящие и притворные, новая поездка мистера Райла, первое ощущение Пекиша, что он стареет, двадцать метров молчаливых рельсов, годы, бегущие один за другим, желание Джун, Морми на сеновале, и руки Ститта у него на плечах, письма инж. Бонетти, земля, трескающаяся от жажды, комичная смерть Тиктеля, Пекиш и Пент, Пент и Пекиш, тоска по словечкам Андерсона, предательская ненависть, терзающая душу, пиджак, который постепенно становится впору, страх потерять Джун, история Моривара, тысячи звуков одного оркестра, маленькие чудеса, ожидание, когда она тронется, воспоминание о том, как она остановилась за мгновение до того, как закончились рельсы, человеческие слабости и наказания за них, глаза мистера Райла, глаза Пента, глаза Морми, глаза вдовы Абегг, глаза Пекиша, глаза старика Андерсона, губы Джун. Много всего. Это было сродни затянувшемуся ожиданию. Казалось, конца ему не будет. И возможно, никогда бы и не было, если бы в конце концов не появился тот человек.
Элегантный, с растрепанными волосами, с большим портфелем из коричневой кожи, в руках — вырезка из старой газеты. Он подносит ее к глазам, читает в ней что-то и произносит голосом, идущим, кажется, откуда-то издалека:
— Я ищу мистера Райла… мистера Райла со Стекольного завода Райла.
— Это я.
Он кладет в карман газетную вырезку. Ставит портфель на землю. Медленно поднимает глаза на мистера Райла, явно избегая его взгляда.
— Меня зовут Гектор Горо.
3
В каком-то смысле все началось одиннадцать лет назад, в тот день, когда Гектор Горо — которому в ту пору было на одиннадцать лет меньше, — листая парижскую газету, не мог не обратить внимание на необычное объявление, которому фирма «Дюпрат и К.» вверяла коммерческую судьбу эссенции Амазилли — душистого антисептического гигиенического средства.
«Помимо несомненных преимуществ, которые эта эссенция предлагает дамам, она обладает также гигиеническими свойствами, способными завоевать доверие тех из них, кто уже имел удовольствие убедиться в ее терапевтических свойствах. Хотя, само собой разумеется, наша эссенция и не сможет, подобно живой воде, убавить ваши годы, — зато она сумеет, кроме всех прочих своих достоинств, которые, как нам кажется, нельзя недооценивать, — восстановить в первоначальной красоте прошлого великолепия ту изумительную в своем совершенстве часть тела, вершину творения Создателя, которая по элегантности, чистоте и изяществу своих форм представляет собой блестящее украшение лучшей половины человечества. Без благотворного воздействия нашего изобретения эта часть тела, столь нежная и бесценная и по тонкому изяществу своих скрытых форм столь похожая на цветок, увядающий при первом же порыве ветра, осталась бы мимолетным проявлением этой красоты, обреченной, вспыхнув лишь на миг, угаснуть от пагубного дыхания болезни, кормления ребенка или роковой узости коварного корсета. Наша эссенция Амазилли, созданная исключительно для дам, отвечает самым настоятельным требованиям их интимного туалета».
Гектор Горо подумал, что это — настоящая литература. Совершенство этого текста приводило его в замешательство. Он восхищался точностью вводных слов, прочной подгонкой относительных местоимений, точнейшей дозировкой прилагательных. «Роковая узость коварного корсета» — это было уже из области поэзии. Особенно его восхищала эта чудесная способность: столь долго описывать предмет, название которого впрямую не упоминалось. Маленький синтаксический храм, выросший из зерна стыдливости. Гениально.
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)