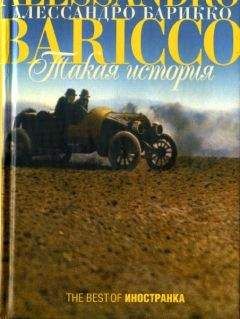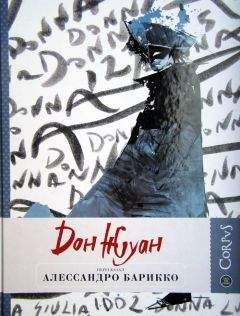Море-океан - Барикко Алессандро
Да, теперь я понял.
— Не водопад мне нужен, Эдель, а безмятежное озеро, не дубы, а березы; те горы в глубине должны стать холмами, день — закатом, вихрь — ветерком, город — деревенькой, замки — садами. И уж если не обойтись без ястребов, пускай себе парят где-нибудь в вышине.
Да, я понял. А как быть с людьми?
Барон молчит. Он обводит взглядом всех действующих лиц огромной гобеленной мастерской, одного за другим, словно испрашивая их совета. Он переходит от стены к стене, но не слышит ответа. Так и должно было быть.
— Эдель, а как бы сотворить таких людей, которые не причиняют зла?
Верно, и Господь Бог задавался в свое время подобным вопросом.
— Не знаю. Но попробую.
Работа в мастерской Эделя Трата растянулась на долгие месяцы и нескончаемые версты шелковой нити, доставленной по распоряжению барона.
Ткали молча, ибо, как утверждал Эдель, тишина должна впитаться в самый уток.
Нить вроде бы не отличалась от всякой другой, только увидеть ее не было никакой возможности. Но нить была. Так и трудились — в полной тишине.
Долгие месяцы.
И вот в один прекрасный день ко дворцу барона подъехала повозка. На ней воз лежал шедевр Эделя. Три гигантские штуки, увесистые, как пасхальные кресты. Штуки втащили по парадной лестнице, пронесли через вереницу коридоров и дверей — в самое сердце дворца, в поджидавшую их комнату.
Прежде чем их размотали, барон прошептал:
— А люди? Эдель усмехнулся.
— Уж если не обойтись без людей, пускай себе парят где-нибудь в вышине.
Барон дождался закатного багрянца, взял дочку за руку и повел ее в новую комнату. Эдель говорит, что, войдя, она зарделась от изумления. На мгновение барон убоялся, что сюрприз окажет на нее чрезмерное воздействие.
Но только на мгновение. В комнате тотчас воцарилась неотразимая тишина шелкового мира, которого мирные пажити лучились тихой радостью, а крошечные человечки, повиснув в воздухе, неторопливо мерили пределы бледно-голубого неба.
Эдель говорит — и этого ему не забыть никогда, — что она долго осматривалась, а потом, обернувшись, просияла улыбкой.
Ее звали Элизевин.
У нее был дивный бархатный голос; выступала она — будто скользила по воздуху, и нельзя было отвести от нее глаз. Временами без видимой причины она начинала носиться по коридорам, по этим ужасным белым коврам, навстречу неведомо чему. Она уже не была всегдашней тенью и неслась, неслась… Но только изредка и так, что при встрече с ней иные перешептывались…
3
До таверны «Альмайер» можно было дойти пешком по тропинке, спускавшейся от часовни Святого Аманда; либо доехать в экипаже по дороге на Куартель; либо доплыть на барже вниз по реке. Профессор Бартльбум добрался до нее по воле случая.
— Это трактир «Согласие»?
— Нет.
— Тогда подворье Святого Аманда?
— Нет.
— А может, это Почтовый дом?
— Нет.
— Наверное, это харчевня «Королевская килька»?
— Нет.
— Превосходно. Не найдется ли у вас свободной комнаты?
— Найдется.
— Ее-то мне и надо.
Тучная книга с закорючками гостей выжидающе раскрылась на деревянной подставке. Свежеубранное бумажное ложе приготовилось воспринять иноименные сны. Профессорское перо сладострастно примяло хрустящую простыню.
Исмаил Аделанте Исмаил проф. Бартльбум
Легкий росчерк — узорчатые завитки. Просто загляденье.
— Первый Исмаил — мой отец. Второй — мой дед.
— А этот?
— Аделанте?
— Нет, не этот, а… вот этот.
— Проф.?
— Угу.
— Профессор-то? Ну, это профессор.
— Ничего себе имечко.
— Никакое это не имечко. Профессор — это я сам и есть. Я учу, понимаете? Когда я иду по улице, мне говорят: «Добрый день, профессор Бартльбум», «Добрый вечер, профессор Бартльбум». Только это не имя, это то, чем я занимаюсь, я учу…
— Не имя?
— Нет.
— Ладно. Меня зовут Дира.
— Дира.
— Да. Когда я иду по улице, мне говорят: «Добрый день, Дира», «Спокойной ночи, Дира», «Какая ты сегодня хорошенькая, Дира», «Какое у тебя красивое платье», «Не видала ли ты часом Бартльбума? — Нет, он у себя в номере, второй этаж, в конце коридора, возьмите полотенца, с видом на море, надеюсь, вам понравится».
Профессор Бартльбум — с этого момента просто Бартльбум — взял полотенца.
— Мадемуазель Дира…
— Да?
— Дозвольте полюбопытствовать?
— ?
— А сколько вам лет?
— Десять.
— Ага.
Бартльбум — с недавнего времени бывший профессор Бартльбум — подхватил чемоданы и направился к лестнице.
— Бартльбум.
— Да?
— У девушек не спрашивают их возраст.
— Верно. Простите.
— Второй этаж. До конца по коридору.
Комната в конце коридора (второй этаж): кровать, шкаф, два стула, печь, конторка, ковер (синий), две одинаковые картины, умывальник с зеркалом, скамейка-ларь и мальчик — сидит на подоконнике (у открытого окна), свесив ноги в пустоту.
Бартльбум легонько кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие.
Хоть бы что.
Бартльбум вошел в комнату, поставил чемоданы, подошел к картинам, взглянул на них пристальнее (действительно одинаковые, невероятно), присел на кровать, с явным облегчением скинул башмаки, приблизился к зеркалу, посмотрел на себя, убедился, что это все еще он (почем знать), заглянул в шкаф, повесил в него плащ и, наконец, шагнул к окну.
— Ты что, статуэтка или просто так? Мальчик не шелохнулся. Но ответил:
— Статуэтка.
— А.
Бартльбум отошел к кровати, развязал галстук и лег. Влажные пятна на потолке распустились как черно-белые тропические цветы. Он закрыл глаза и уснул. Ему приснилось, что его, Бартльбума, позвали в цирк «Бозендорф» заменить женщину-пушку; выйдя на арену, он узнал в первом ряду тетушку Аделаиду, даму утонченную, но сомнительного поведения; вначале она целовалась с пиратом, затем — с женщиной, похожей на нее как две капли воды, а в довершение всего — с деревянным истуканом какого-то святого, который, впрочем, вовсе не был истуканом, поскольку неожиданно стронулся с места и зашагал прямо к нему, Бартльбуму, издавая попутно нечленораздельные звуки, поднявшие в публике волну всеобщего недовольства, столь бурного, что ему, Бартльбуму, пришлось удирать со всех ног, отказавшись даже от заветного гонорара, оговоренного с директором цирка, а именно от 128 монет.
Бартльбум проснулся. Мальчик сидел на прежнем месте. Только повернулся и смотрел на Бартльбума. Более того, он говорил с Бартльбумом.
— Вы когда-нибудь бывали в цирке «Бозендорф»?
— Простите?
— Я спросил, бывали ли вы когда-нибудь в цирке «Бозендорф»? Бартльбум резко сел на кровати.
— Откуда ты знаешь о цирке «Бозендорф»?
— Ниоткуда. Просто видел его здесь в прошлом году. Там были животные и все такое. А еще там была женщина-пушка.
Бартльбум подумал, нет ли у него случайно известии о тетушке Аделаиде.
Правда, она уже давным-давно умерла, но этот мальчуган, видно, много чего знал. В конце концов Бартльбум решил не вдаваться в подробности. Он встал с кровати и прошествовал к окну.
— Не побеспокою? Душновато.
Мальчик чуть-чуть съехал с подоконника. Холодный воздух и северный ветер. Впереди — необозримое море.
— И что это ты, интересно, здесь высиживаешь?
— Смотрю.
— Смотреть-то особо не на что…
— Вы шутите?
— Ну, на море, конечно, только оно всегда одинаковое: море и море; если повезет, увидишь корабль, тоже не бог весть что.
Мальчик обернулся к морю, потом к Бартльбуму, потом опять к морю и снова к Бартльбуму.
— Надолго сюда? — спросил он.
— Не знаю. На денек-другой.
Мальчик слез с подоконника, направился к двери, остановился на пороге и смерил Бартльбума испытующим взглядом.
А вы славный. Надеюсь, до отъезда вы малость поумнеете.
Бартльбуму не терпелось узнать, кто же воспитывает таких мальчиков. Не иначе, чудо-дети.