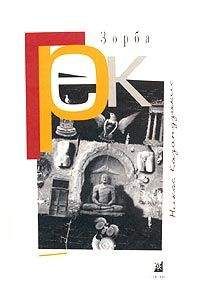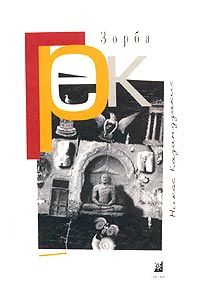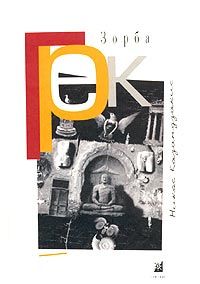Я, грек Зорба (Невероятные похождения Алексиса Зорбаса) - Казандзакис Никос
Так я думал о своей жизни, проходившей без всякой пользы. Через открытую дверь, при свете звезд, смутно виделся Зорба, сидевший на корточках на скале, подобно ночной птице. Я завидовал ему, он нашел правду, его путь был единственно правильным!
В какую-нибудь первобытную эпоху Зорба наверняка был бы вождем племени, прорубившим путь своим людям топором. Или же знаменитым трубадуром, кочевавшим по замкам, где все бы упивались звуками, исходившими из его уст: господа, слуги, знатные дамы… В нашу же неблагодарную пору он бродит вдоль изгородей, словно голодный волк, или опускается до роли шута при каком-то писаке.
Вдруг я увидел, что Зорба поднялся. Кинув одежду на гальку, он бросился в море. Через минуту при слабом свете нарождавшейся луны на поверхности появилась его голова, затем он снова нырнул. Время от времени он вскрикивал, лаял, ржал, пел петухом — душа его в этой ночи обращалась к животным.
Я незаметно заснул. На другой день ранним утром я увидел улыбающегося и отдохнувшего Зорбу, он тряс меня за ноги.
— Поднимайся, хозяин, я хочу посвятить тебя в свой проект.
— Слушаю тебя.
Нам давно уже нужен был лес для прокладки новых галерей. Мы решили арендовать принадлежащий монастырю сосновый лес, однако транспортировка стоила дорого, к тому же не нашлось мулов. И вот сейчас, Зорба, усевшись по-турецки прямо на землю, начал объяснять, как он установит канатную дорогу с вершины горы до берега: с ее помощью можно будет спускать лес; дорога будет оснащена стальными тросами, опорами и шкивами.
— Согласен? — спросил старый грек, закончив. — Ты подписываешься под этим?
— Я подписываюсь, Зорба, я согласен.
Он разжег жаровню, поставил на огонь чайник, приготовил мне кофе, закутал мои ноги одеялом, чтобы я не простудился, и ушел удовлетворенный.
— Сегодня мы начнем новую галерею. Я нашел одну из этих жил! Настоящий черный алмаз! Раскрыв рукопись «Будды», я углубился в свои собственные галереи. Я работал весь день и по мере продвижения испытывал сложные чувства — облегчение, тщеславие и отвращение. Но я был увлечен, ибо знал, что стоит мне закончить эту рукопись, запечатать и перевязать, как я стану свободен.
Почувствовав голод, я съел немного изюма, миндаля и кусочек хлеба. С нетерпением ожидал я возвращения Зорбы, человека, приносившего радость своим чистым смехом, добрым словом и мастерством в приготовлении вкусной еды.
Зорба появился к вечеру. Он сделал обед, мы поели, мысли же его где-то витали. Он опустился на колени, вбил небольшой колышек, натянул шпагат и, подвесив на маленьком ролике щепку, пытался найти необходимый наклон, чтобы его сооружение не поломалось.
— Если наклон будет больше, чем нужно, — объяснял он мне, — то все пропадет. Если меньше, все равно плохо. Нужно найти точный наклон. А для этого, хозяин, необходимы вино и здравый смысл.
— Вино у нас есть, что же касается здравого смысла… Зорба рассмеялся.
— Ты не так глуп, хозяин, — заметил он, с нежностью посмотрев на меня.
Старый грек сел передохнуть и закурил сигарету. У него снова было хорошее настроение и он разговорился.
— Если удастся наладить канатную дорогу, спустим весь лес, потом откроем лесопилку, чтобы делать доски, столбы, крепежный лес, деньги будем грести лопатой, а затем можно построить трехмачтовый корабль и, смотав удочки, отправиться бродить по свету!
Глаза Зорбы блестят, он видит далекие города с иллюминацией, огромными домами и машинами, пароходы, красивых женщин…
— Волосы мои стали седыми, зубы начали шататься — я не могу больше терять время. Ты же молод и можешь еще потерпеть. Я больше не могу. Честное слово, чем больше я старею, тем больше я зверею! И пусть не рассказывают сказки, что старость делает человека мягче и умеряет его пыл! С приближением смерти он, тем не менее, не подставит шею со словами: «Перережь мне горло, пожалуйста, чтобы я отправился к праотцам». У меня наоборот, чем ближе смерть, тем мятежнее я становлюсь. Я не спускаю флаг. Я хочу завоевать мир! Он поднялся и снял со стены сантури.
— Иди-ка на минутку сюда, демон, — сказал он, — что это ты молча висишь на стене? Сыграй нам немножко! Я всегда с жадностью смотрел на то, с какой осторожностью и нежностью доставал Зорба сантури из тряпки, в которую она была завернута. Он делал это с таким видом, будто очищал инжир или раздевал женщину. Старый грек поставил сантури на колени, склонился над ней и слегка погладил струны — похоже было, что он советовался с ней о песне, которую они вместе будут петь, казалось, он упрашивал ее проснуться, составить компанию его печальной душе, уставшей от одиночества. Зорба затянул песню, она не выходила, прервав ее, он запел другую; струны звенели нехотя, словно им причиняли боль. Старик прислонился к стене, вытер пот, внезапно проступивший на лбу.
— Она не хочет… — пробормотал он с трудом, взглянув на сантури, — она не хочет.
Он вновь завернул ее с осторожностью, будто это был хищный зверь, который мог на него напасть, и, тихонько поднявшись, повесил сантури на стену.
— Она не хочет, — прошептал он снова. — И не нужно ее насиловать.
Зорба уселся на землю, положил каштаны в огонь и налил в стаканы вина. Он выпил, потом еще, очистилкаштан и протянул его мне.
— Ты в этом что-нибудь понимаешь, хозяин? — спросил он меня. — Я — ничего. Любая из вещей имеет душу: лес, камни, вино, которое пьют, земля, по которой ходят… все, все, хозяин.
Он поднял стакан.
— За твое здоровье!
Выпив его, он налил снова.
— Б…ая жизнь! — прошептал он. — Шлюха! Она такая же, как мамаша Бубулина.
И он рассмеялся.
— Послушай, что я тебе скажу, хозяин, да не смейся ты. Жизнь, похожа на мамашу Бубулину. Она стара, не так ли? Однако в ней все же есть нечто занимательное. У нее есть множество способов заставить тебя потерять голову. Закрыв глаза, ты себе представляешь, что держишь в объятиях двадцатилетнюю девушку. Ей всего лишь двадцать лет, клянусь тебе, старина, если ты в форме и погасил свет. Ты можешь мне сказать, что она перезрела, что она вела беспорядочный образ жизни, что она крутила с адмиралами, матросами, солдатами, крестьянами, ярмарочными торговцами, попами, рыбаками, жандармами, школьными учителями, проповедниками, судьями. Ну а потом? Что из этого? Она быстро все забывает, шлюха, не может вспомнить никого из своих любовников, становится (и я не шучу) невинной пташкой, наивной девочкой, маленькой голубкой, краснеет, можешь мне поверить, она краснеет и дрожит, словно это в первый раз. Женщина—это чудо какое-то, хозяин. Она может пасть тысячу раз и тысячу раз она поднимется девственницей. Ты меня спросишь, почему? Да потому, что она ни о чем не помнит.
— А ее попугай все помнит, Зорба, — сказал я, чтобы его уколоть. — Он все время называет имя и отнюдь не твое. Разве это не приводит тебя в бешенство? В ту минуту, когда ты вместе с ней поднимаешься на седьмое небо и слышишь попугая, который кричит: «Канаваро! Канаваро!», разве у тебя нет желания свернуть ему шею? Хотя в конце концов придет время и ты его научишь кричать: «Зорба! Зорба!»
— О-ля-ля! Какой же ты старомодный! — закричал Зорба, заткнув уши большими руками. — Почему ты хочешь, чтобы я его задушил? Да я просто обожаю слушать, как он выкрикивает это имя, о котором ты говоришь. Ночью он цепляется за что-то над кроватью, чертенок, глаза его пронизывают темноту, и едва мы начинаем объясняться, как этот негодяй вопит: «Канаваро! Канаваро!» И тотчас, клянусь тебе, хозяин, хотя, как ты сможешь это понять, ты развращенный своими проклятыми книгами! Даю тебе слово, хозяин, я чувствую на своих ногах лакированные туфли, перья на голове и бороду, нежную, как шелк и пахнущую амброй. «Буон джорно! Буона сэра! Манджате макарони». Я становлюсь настоящим Канаваро. Поднимаюсь на свой адмиральский корабль, пробитый тысячу раз и пошел… полный вперед! Канонада начинается!
Зорба рассмеялся. Он закрыл левый глаз и посмотрел на меня.
— Ты уж извини меня, — сказал он, — но я похож на своего деда, капитана Алексиса, Боже, прими его душу! В свои сто лет он по вечерам усаживался перед дверью, чтобы посмотреть на молодежь, которая шла к фонтану. Зрение у него ослабло, иногда он подзывал девушек: «Скажи-ка, кто ты?» — «Ленио, дочь Мастрандони!» — «Подойди-ка поближе, я коснусь тебя! Ну, иди же, не бойся!» Девушка подавляла смех и подходила. Мой дедушка поднимал тогда руку точно до лица девушки и нежно ощупывал его, медленно и жадно. У него текли слезы. «Почему ты плачешь, дедушка?» — спросил я его однажды. «Эх! Ты думаешь, что не о чем плакать, сынок, в то время как я вот-вот помру и оставлю на земле столько красивых девушек?» Зорба вздохнул.