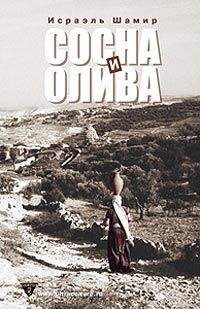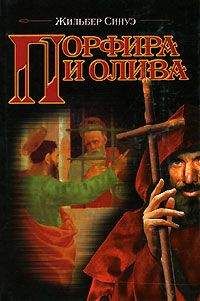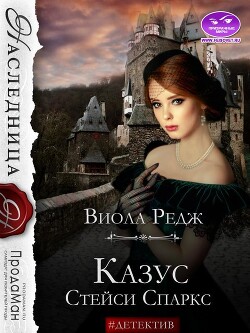Олива Денаро - Ардоне Виола
– Барон Альтавилла, – объявляет он, не протягивая руки. У меня перехватывает дыхание: и этот не снисходящий до рукопожатия, представляющийся с царственным высокомерием человек собирается прикупить себе в жёны ровесницу сына! Я пытаюсь поймать взгляд Козимино, проследить за его реакцией, но он, стоя в двух шагах позади матери, только вежливо улыбается.
Тем временем старик, приобняв «красавчика Антонио» за плечи, разворачивает его, будто марионетку на ниточках, лицом к отцу, и молодой человек протягивает руку:
– Очень приятно, Франко!
Когда он улыбается, зубы у него белее белого.
29.
– Детская болезнь, – рассказывает старик матери, единственной, с кем он снисходит до разговора.
Отец, устроившись во главе стола, делает вид, будто сейчас обычное воскресенье. Козимино слушает с тем же вниманием, с каким в детстве следил за приключениями Джуфы[15]. Я тайком поглядываю на Франко, сидящего как раз напротив меня: суп он зачерпывает не глядя, а если хочет пить, старик наливает ему воды и подносит к стакану руку. Говорит Франко мало, но голос у него красивый.
– Родители обращались к лучшим врачам, – продолжает старик, – даже на континенте.
– А это не наследственное? – вдруг настораживается мать.
– Больше ни у кого в семье не замечали. Дети будут здоровые.
По спине пробегает холодок: подруги рассказывали, что с женихом придётся спать в одной постели. Я смотрю на его руки, легко управляющиеся со столовыми приборами: они бледнее и куда мягче, чем у отца. Чтобы завести ребёнка, эти руки должны подписать бумаги в церкви, касаться моих пальцев за свадебным столом, пробраться под сшитую матерью ночную рубашку, стиснуть мою плоть.
– Пора бы тебе поднять тост за молодых, Сальво, – хрипло каркает мать, надеясь прервать отцовское молчание. Тот долго жуёт, утирает рот салфеткой, словно собираясь сказать: «Пожалуй, нет», потом наконец поднимает едва ли вполовину налитый бокал красного вина, но, взглянув на меня, бормочет только:
– Наши поздравления!
Старик вскидывает брови, и морщины у него на лбу выстраиваются в три горизонтальные линии.
– Мой племянник – юноша простой и прекраснодушный, – уточняет он так громко, будто Франко глухой, а не слепой. – Родители его, хоть и не смогли приехать, поскольку, как мы уже сообщали, баронесса мучается почечными коликами, шлют вам привет и ждут ответного визита. Господь в милости своей не даровал им другого сына, так что Франко, несмотря на случившееся несчастье, остаётся их единственной радостью. В столице девушки теперь слишком раскрепощённые и не питают, как раньше, уважения к здравым семейным ценностям. Им подавай работу, гулянки с подругами, кино, танцы... Они даже не понимают, что тем самым растрачивают себя, расточают свою чистоту.
– Сколько кругом разбитых кувшинов, – согласно кивает мать. – Однако дочь моя целёхонька.
– Как и Франко, который ещё и женщины-то не познал, – заверяет старик и, обернувшись ко мне, начинает пристально разглядывать, словно хочет удостовериться, правду ли говорит мать.
– Мы нашу Оливу словно цветочек растили, – напирает она, коснувшись моей руки.
– В этом мы уверены, – бросает старик, продолжая меня изучать. – Однако до нас дошли сведения, что девушка уже была с кем-то в отношениях. Кажется, у неё возникла некоторая «симпатия», или как там теперь говорит молодёжь?
– Никакой такой симпатии! – спешит объясниться мать, кончиками пальцев поправляя прядь волос, и без того лежащую на своём месте. – Просто один излишне пылкий юноша положил на мою дочь глаз, хотя она, разумеется, его надежд никоим образом не поощряла. Муж дал молодому человеку понять, что его предложения нас не интересуют, – она умоляюще глядит на отца, потом, опустив глаза, принимается разглядывать вышивку на скатерти, – и всё кончилось мирно. А девушка с тех пор из дома не выходила.
Дядя Франко чешет морщинистый лоб. Мать снова касается моей руки: её пальцы ледяные. Для неё всё – боль. Даже возможность выдать дочь замуж.
Старик бросает на меня последний испытующий взгляд, будто пытаясь вытащить на свет божий какую-то тайну, и, вздохнув, отворачивается к окну.
– Восемь классов девушка закончила? – спрашивает он, даже не назвав меня по имени.
– И два курса педучилища, потом мы её забрали.
– Франко нравится, если ему немного почитают на ночь, – похоже, дядя смирился. Он задумчиво проводит тыльной стороной ладони по щеке, словно проверяя, не отросла ли щетина, теребит двумя пальцами подбородок, наконец кивает. Ни я, ни сидящий напротив Франко не двигаемся. Старик залпом допивает бокал и поднимается из-за стола. Экзамен окончен.
30.
После обеда нас с Франко выставляют прогуляться вокруг дома, так сказать, познакомиться, пока взрослые обговаривают материальные вопросы. Слепец подходит ближе, кладёт пальцы мне на предплечье. Рука у него совсем не такая, как у Патерно: легче. Козимино, не понимая, нужно ли ему с нами, оборачивается к матери в поисках одобрения.
– Пускай идут, – отмахивается она с лукавой улыбкой. – Твоя сестра ведь обручена, а молодёжь нынче имеет право ненадолго уединиться.
Он ошеломлённо отступает, и мы уходим вдвоём. Впрочем, я удивлена не меньше: может, мать потому отпускает нас одних, что Франко ничего не видит и, следовательно, ничего плохого мне сделать не сможет? Мы идём молча, но не от смущения, а так, словно говорить и не нужно. Потом мне вдруг приходит в голову, что он слепой, а не немой. Сердце уходит в пятки: значит, сказать что-нибудь всё-таки придётся, хотя бы из вежливости, вот только на ум ничего не приходит. Я боюсь его обидеть, боюсь всего на свете: гулять с ним вот так, наедине, навсегда уехать из дома, чтобы жить замужем в столице, остаться, как Фортуната, печальной и одинокой, оказаться в руках совершенно чужого человека, самих этих рук, которые должны меня касаться, чтобы сделать мне ребёнка. Боюсь того, что каждый день своей жизни вынуждена буду заботиться о слепце. Боюсь исчезнуть, потому что его глаза никогда меня не увидят. Откуда вообще взяться любви, если нет глаз? «Как сказал древний сицилийский поэт: “Любовь есть страсть, из сердца источенье от преизбытка сладостной истомы, – будто слышу я певучий голос профессора Терлицци. – Она очей сначала излученье, а сердцем после этого питома”[16]».
Слепец вцепился в мою руку, но на самом деле ведёт нас именно он, а я, сама того не сознавая, подстраиваюсь под его шаг. И всё ещё отчаянно пытаюсь что-нибудь сказать, но в голове вертится лишь это стихотворение. Я оборачиваюсь к своему спутнику, быстро заглядываю в лицо и тотчас же привычно опускаю глаза. Потом думаю: нет, раз он меня не видит, то и мне в землю смотреть не обязательно.
Франко вдруг останавливается – прямо за сараем Пьетро Пинны, в единственном месте, откуда не видно нашего дома.
– Так ты что, не слепой? – подозрительно спрашиваю я. Он кривится, а мне теперь хоть со стыда сгорай: столько молчать, чтобы вот так ляпнуть невпопад!
А он уже снимает свои тёмные очки. Я в ужасе отдёргиваю руку, машу ею перед его лицом, но глаза, светлые, почти белые, как две перегоревшие лампочки, остаются неподвижными.
– Cделай для меня кое-что, – говорит он и снова начинает искать мои руки.
Я отступаю: хоть мы теперь и помолвлены, мне вовсе не хочется быть испорченной раньше времени.
– Боишься?
– Нет, – вру я, хотя сердце едва не выпрыгивает из груди.
– Для тебя это пустяки, а для меня очень важно, – он берёт мои руки в свои, гладит, потом кончиком указательного пальца касается ладони. Там меня ещё никто и никогда не трогал. Я чувствую, как под рёбрами зарождается нечто вроде щекотки. Слепой поднимается от ладони вверх, к кончикам пальцев, пока не обводит один за другим контуры каждого ногтя, потом опускает руки и делает шаг вперёд, ко мне. – Постой, не уходи, – просит он. Я застываю, задерживаю дыхание. «Любовь есть страсть, из сердца источенье», – по-прежнему вертится в голове. – Теперь закрой глаза, – предлагает он. – Так мы будем на равных.