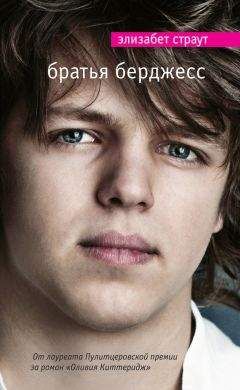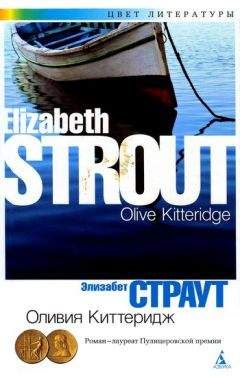Ах, Вильям! - Страут Элизабет
— Я видела, — сказала я.
Так мы сидели минуту-другую, и солнце светило в лобовое стекло, а потом, оглядевшись по сторонам, я заметила библиотеку.
— Давай зайдем в библиотеку, — сказала я.
— В библиотеку? — сказал Вильям.
— Ага.
* * *
Мы зашли в библиотеку, и внутри была винтовая лестница, а рядом стойка выдачи книг, и в креслах сидели два посетителя, старик и девушка, и читали газеты. Атмосфера была приятная, такая атмосфера и должна царить в библиотеке маленького городка. Библиотекарша, женщина лет пятидесяти пяти, подняла голову. Волосы у нее были почти бесцветные, такие, знаете, тускло-русые (в молодости она, вероятно, была блондинкой), а глаза не большие и не маленькие — я хочу сказать, выглядела она как-то безлико, зато почти сразу приветливо спросила:
— Чем я могу вам помочь? — Похоже, она поняла, что мы не местные.
— Отец моего мужа был немецким военнопленным и работал здесь на картофельных полях, — сказала я. — У вас есть материалы об этом?
Библиотекарша внимательно посмотрела на нас и вышла из-за кафедры.
— Да, — сказала она. И отвела нас в уголок, посвященный немецким военнопленным, и Вильяма переполнили чувства, это было видно по его лицу.
На стене висели рисунки, сделанные военнопленными. На полках лежали старые журналы, раскрытые на статьях про военнопленных, и какая-то тонкая книжечка.
— Меня зовут Филлис, — сказала библиотекарша, и Вильям пожал ей руку, чем, по-моему, ее удивил. Тогда она спросила, как зовут его, и Вильям представился, а потом обратилась ко мне и спросила, как зовут меня, и я пробормотала: «Люси Бартон». — Ну что ж, изучайте, — сказала Филлис, придвигая к стеллажу два кресла, и мы сказали ей спасибо.
Целая полка была уставлена старыми снимками, и, приглядевшись к одному из них, я воскликнула:
— Вильям! Это же он!
На снимке было четверо мужчин, они сидели на корточках, и снизу были подписаны их имена и фамилии. Один улыбался, остальные — нет. Вильгельм Герхардт сидел с краю. Он не улыбался. Его кепка была сдвинута набок, и он смотрел в камеру серьезным взглядом — взглядом, который почти говорил: «Да пошли вы». Вильям взял снимок в руки и долго его разглядывал, а я смотрела на Вильяма, пока он его разглядывал. А потом отвернулась.
Когда я повернулась обратно, он все еще изучал снимок; наконец он поднял глаза и сказал:
— Это он, Люси. — Затем добавил чуть тише: — Это мой отец.
Я снова взглянула на фото, и меня снова поразило выражение лица Вильгельма. Все мужчины были худыми, но у Вильгельма были темные брови и темные глаза, и смотрел он слегка презрительно.
Филлис по-прежнему стояла у нас за спиной.
— Мы очень гордимся тем, как с ними тут обращались. Вот, смотрите… — И она открыла тоненькую книжечку и показала нам фотографии писем, которые местные фермеры получали от вернувшихся в Германию военнопленных. В каждом письме была просьба прислать еды. — Один фермер отправлял в Германию целые горы провизии, — сказала Филлис и, пролистав книжечку, показала нам фотографию фермера, грузившего большие коробки на транспортер. Фамилия у фермера была не Траск. Я и не думала, что это окажется Траск. — Вы не спешите, — сказала Филлис и вернулась за стойку.
* * *
Вильям подтолкнул меня в бок и показал цитату ближе к концу тоненькой книжечки. Это были слова немецкого военнопленного о том, как утром двадцатого апреля, в день рождения Гитлера, они сшили свастики из фиолетовой ткани и развесили их в бараках. Потом я вычитала в одном письме, написанном уже после войны, что было время, когда военнопленных недокармливали. И вспомнила рассказ Кэтрин, как она носила им пончики. Мы больше часа изучали материалы, затем вернулась Филлис.
— У меня муж на пенсии, если хотите, он отвезет вас к баракам — к тому, что от них осталось, — сказала она. — Это рядом с местным аэропортом.
Вильям просиял:
— Ой, было бы замечательно.
Филлис отправила мужу сообщение и немного спустя сказала:
— Он будет через десять минут. — Так что мы собрали вещи и пошли к стойке выдачи. Там лежала стопка моих книг. — Подпишете для наших читателей? — спросила Филлис. И я сказала — конечно, давайте, хотя у меня в голове не укладывалось, что она может меня знать (ведь я невидимка), но я все равно подписала.
Муж Филлис, Ральф, такой же приветливый, как она сама, и с такими же бесцветными, некогда светлыми волосами, заехал за нами на джипе. На нем были брюки хаки — правильной длины — и красная футболка. В машине он разговаривал в основном с Вильямом — Вильям сидел спереди, а я сзади, — и светило солнце, и дорога заняла где-то пятнадцать минут; сначала Ральф показал нам смотровую вышку, она была не очень высокая, а потом свернул на проселок, притормозил и, не глуша двигатель, показал нам все, что осталось от лагеря, где когда-то жило больше тысячи военнопленных. От лагеря остался лишь кусок бетонной стены.
И тут со мной случилась странная штука. Не знаю, как объяснить, чтобы вы поверили, поэтому просто расскажу, что произошло.
Я взглянула на останки бетонной стены, кое-где ее покрывала зеленая листва, и листва эта блестела на солнце, и тут меня переклинило, и с этого момента, что бы ни говорил Ральф, я все знала наперед. Я имею в виду, стоило ему раскрыть рот, а я уже заранее знала, какие слова он произнесет. Ничего важного он не говорил — лишь описывал, как строили бараки и какая там была теплоизоляция. Но в голове у меня звучал женский голос, когда-то все это мне уже рассказывавший. Просто удивительно. «Это дежавю?» — подумала я. И сразу поняла, что нет. Ощущение длилось гораздо дольше, это было очень странное мгновение. Или множество мгновений.
Ральф высадил нас у библиотеки, и мы оба пожали ему руку и поблагодарили его, а потом, когда мы сели в свою машину, я рассказала Вильяму, что произошло, и он долго смотрел на меня испытующим взглядом.
— Ничего не понимаю, — сказал он.
— Я тоже, — сказала я.
— Но это было видение? — спросил он. (У меня уже случались видения — как и у моей матери, — и даже Вильям, ученый, знал про них и не подвергал их сомнению.)
— Нет, — сказала я. — До видения это недотягивает. — А потом добавила: — Я будто на миг проскользнула между мирами. Только длилось это дольше, чем миг.
Вильям поразмыслил над моими словами и покачал головой.
— Ладно, Люси, — сказал он и завел мотор.
* * *
Видения моей матери.
Одной ее заказчице — мама занималась пошивом и ремонтом одежды — должны были удалять желчный пузырь, и накануне операции маме приснилось, что у этой женщины рак. Утром мама рыдала у нашей старой стиральной машинки, и, когда я спросила, что случилось, она объяснила, что в женщине «он уже повсюду», — и оказалась права. Заказчица умерла два с половиной месяца спустя.
Один мужчина в нашем городе покончил с собой, и мама заранее знала, что это случится, за несколько недель. «Я все видела», — сказала она. И он действительно покончил с собой — застрелился в поле. Он служил дьяконом в конгрегационалистской церкви, хороший был человек; помню, он всегда улыбался мне, когда мы приходили в церковь на День благодарения ради бесплатного обеда.
Когда я была маленькой, у нас в окру́ге пропал мальчик, и мама сказала, что он упал в колодец. У нее было видение, сказала она. Папа предложил обратиться в полицию, а она ему: «Ты спятил? Меня примут за сумасшедшую! Нам это нужно? — Она сказала: — Нам нужно, чтобы весь город так думал?» Но потом мальчика в колодце нашли, и ей не пришлось никому рассказывать. Знали только мы. Он выжил.
Когда родилась Крисси, я получила от мамы письмо — я не сообщала ей о беременности, — и в письме говорилось: «У тебя родилась дочка, у меня было видение, в котором ты держала младенца в пеленке, и я сразу поняла, что это девочка».