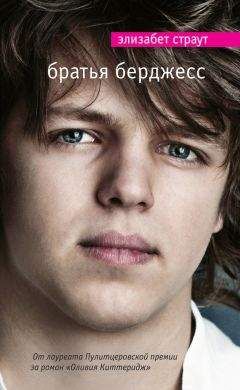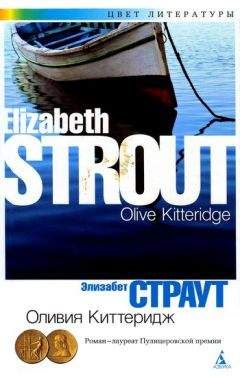Ах, Вильям! - Страут Элизабет
Какая странная штука — жизнь.
* * *
В субботу мы с Беккой и Крисси встретились в «Блумингдейле», это наша давняя традиция. Мы покупаем замороженный йогурт на седьмом этаже, а потом гуляем по магазинам. Я уже писала об этом в одной из прошлых своих книг.
Так вот, когда мы встретились в «Блумингдейле», Бекка воскликнула:
— Мам! Что за херня свалилась на папину голову? Сначала от него уходит жена, а теперь он узнаёт, что у него есть какая-то там сестра? Мам! — Она смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами.
— И не говори, — ответила я.
— Бедный папа, — серьезно сказала Крисси.
— Да уж, — сказала я.
Как хорошо, сказали девочки, что я поеду в Мэн вместе с ним.
Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна, и она ничего не говорила на этот счет — лишь когда мы зашли в секцию обуви, уже после йогурта, она сказала:
— Я пойду к специалисту, мам. Моложе я не становлюсь.
— Ясно, ну хорошо, — ответила я, и она взяла меня под руку.
В некоторых культурах мать накинулась бы на дочку с расспросами: «К какому специалисту? Мне сходить с тобой? Расскажи подробнее, что происходит?» Но я принадлежу к другой культуре, у меня пуританское воспитание, у моих родителей были пуританские корни — они этим гордились, — и у нас дома так не разговаривали. У нас дома вообще мало разговаривали.
На прощанье я, по обыкновению, поцеловала девочек и, по обыкновению, ощутила боль расставания. Но на этот раз мое сердце болело чуточку сильнее.
— Удачи! Удачи! — кричали они с другой стороны улицы, спускаясь в подземку. — Звони и держи нас в курсе! Пока, мам! Пока, мам!
* * *
Раз уж я недавно упоминала о своем отце, скажу о нем кое-что еще. У него был жуткий посттравматический синдром. Он сражался на войне в Германии, и это очень отразилось на его психике. Он никогда не говорил о войне — о том, что он был на фронте, нам, вероятно, рассказала мать. Его посттравматический синдром (хотя в детстве я не знала, как это называется) выражался в такой сильной тревожности, что она приводила почти к непрерывному сексуальному возбуждению. Часто он ходил по дому…
Вдаваться в подробности я не стану.
Но я любила его, нашего отца.
Я его любила.
Наверное, я упомянула о папе, потому что, собираясь в Мэн, думала об отце Вильяма. Как я уже говорила, он воевал на стороне нацистов. (А мой отец воевал против них.) Вильгельм и Кэтрин состояли в переписке, и, по словам Кэтрин, он писал ей из Германии, что ему «не нравятся те вещи, которые сделала его страна». Но ни одно из его писем не сохранилось — я хочу сказать, после смерти Кэтрин никаких писем мы с Вильямом не нашли, — так что, по сути, мы не знаем, что его отец думал о войне, если не считать одной их беседы, когда Вильяму было лет двенадцать и его отец сказал про Германию, что ему не нравится, какие вещи сделала его страна. Складывая в чемодан летнюю блузу, я размышляла: почему отец Вильяма вернулся в Америку? Только ради Кэтрин? Или, может, он хотел стать американцем? Его подобрали в окопах во Франции американские солдаты, и он думал, что его застрелят, но они этого не сделали. И он говорил — со слов Вильяма и Кэтрин, — что хотел бы найти этих людей и поблагодарить. Пожалуй, он вернулся и ради Кэтрин, и чтобы стать американцем. Пожалуй, и то и другое. Он поступил в Массачусетский технологический институт и, как я уже говорила, стал инженером.
Но я все думала о ночных страхах Вильяма — о том, что ему чудились газовые камеры и крематории.
И я вспомнила, что, когда Вильяму досталось много денег от деда-немца, нажившегося на войне, Кэтрин об этом почти не упоминала. Хотя кое-что она все-таки сказала, лежа на своем мандариновом диване: «Это грязные деньги. Ему нужно отдать их на благотворительность».
Но Вильям не отдал деньги на благотворительность; он стал очень богат. Хотя, как я уже говорила, благотворительностью он занимается. Когда я спрашивала Вильяма про деньги — и что он планирует с ними делать, — он всегда закрывался. «Я оставлю их себе», — говорил он. Так он и поступил. Никогда этого не понимала, но, возможно, ему казалось, что ему что-то причитается. Не потому ли, что он в столь юном возрасте лишился отца? Люди, пережившие утрату, иногда подсознательно стремятся взять что-то взамен. Но деньги Вильям получил лишь много лет спустя — с другой стороны, чувство утраты не исчезает с годами. Но по-моему, Вильяму и правда казалось — и до сих пор кажется, — что ему что-то причитается.
Вильгельм никогда не возил Кэтрин в Германию. И оба они — не считая того раза, когда Вильгельм отправился в Германию после войны, — не возвращались в места своего детства. В этом они были схожи.
Внезапно — складывая в чемодан ночную рубашку для поездки в Мэн — я поняла, из-за чего жизнь Вильяма, скажем так, сошла с рельсов: картины из Дахау, куда мы ездили много лет назад, не шли у него из головы. Все увиденное там глубоко его потрясло. И роль его отца в этом не давала ему покоя. Вселяла ужас. Подкашивала его.
Вот что я поняла.
Возможно, Вильям считал — если вообще позволял себе об этом думать, — что поездка в Дахау повлияла на него сильнее, чем любые другие события в его жизни, сильнее даже, чем смерть матери.
И все же именно после смерти матери — как мне кажется — он начал крутить с другими женщинами. И с Джоанной.
Я просто пыталась понять, кто такой Вильям. Я и раньше пыталась это понять. Много раз я пыталась.
* * *
И вот еще что.
Я не говорила девочкам про измены их отца. Я пообещала себе, что они об этом от меня не услышат. Так что я им не говорила, даже после того, как ушла от него, я не говорила про измены их отца.
А потом, как-то раз — не так уж давно, может, шесть или семь лет назад, — мы гуляли по «Блумингдейлу», девочки и я, а после зашли на бокал вина в ближайший ресторан. И, когда мы сели за столик, девочки переглянулись и Крисси спросила:
— Мам, папа изменял тебе, когда вы были женаты?
Долгое время я не отвечала, просто смотрела в их ясные глаза. Затем спросила:
— Вы готовы к этому разговору?
И они сказали, что готовы.
Тогда я сказала:
— Да, он мне изменял.
Бекка спросила:
— С Джоанной?
И я ответила:
— Да.
Затем я сказала — справедливости ради, — что незадолго до нашего разрыва тоже завела роман. Я посмотрела на своих девочек и объяснила, что я тогда влюбилась в писателя из Калифорнии и с ним у меня был роман. Я сказала, что у писателя была жена, затем добавила:
— И дети. Вот так я поступила. Вам следует знать.
Девочек это не удивило, а скорее заинтриговало — странно, да?
— Что было дальше? — спросила Крисси.
— Ну, его брак распался, но… Как бы сказать… Я знала, что мы не будем вместе, и так оно и вышло. Но после этого я уже не могла оставаться с вашим отцом.
Больше всего меня поразило, как мало их интересовали подробности. Крисси больше заботила Джоанна.
— Долго у них это было? — спросила она, и я ответила, что не знаю.
Бекка сказала:
— А мне она нравилась.
Крисси посмотрела на нее и сказала:
— Да ты ее обожала, — почти сердито, и тогда я сказала:
— Нет, ну а что, она же не знала.
Наступило молчание, потом Бекка покачала головой:
— Ничего не понимаю в этой жизни.
— Я тоже, — сказала я.
На прощанье мы с девочками обнялись и поцеловались, и они сказали, что любят меня. Эта беседа выбила меня из колеи, а девочек, похоже, не выбила. Так мне показалось.
Хотя кто знает, что чувствуют другие?
В аэропорту Ла-Гуардия я увидела Вильяма издалека, и я увидела, что его брюки хаки ему коротки. Это чуточку разбило мне сердце. На ногах у него были лоферы и синие носки, не темно-синие и не голубые, и они выглядывали на пару дюймов из-под штанин. Ах, Вильям, подумала я. Ах, Вильям…