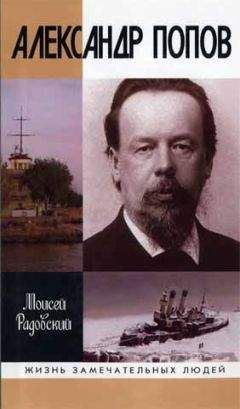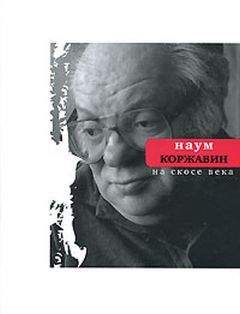День независимости - Форд Ричард
– Нуте-с, Фрэнк, позвольте сказать вам, что в первый раз мне довелось провести процедуру наподобие той, которой я собираюсь подвергнуть юного Пола, лет двенадцать назад, я тогда подвизался в «Дьюке» приглашенным профессором офтальмологии. – Генри уже показал мне сделанный им от руки набросок глаза Пола и теперь скручивает листок в мятую трубочку, точно ненужный рекламный проспект (разговор идет в тонах втайне снисходительных, я ведь как-никак первый муж второй жены его друга и, скорее всего, козел, какого никто в Йеле не видывал). – В тот раз пострадавшей была корпулентная чернокожая дама, какие-то мальчишки кидались в ее дворе конским навозом и угодили ей в глаз. Мальчишки тоже были черными, так что никакого расизма.
Мы стоим на тыльной лужайке больницы, рядом с сине-белой посадочной площадкой, где замер на своих полозьях, неторопливо вращая винтом, красный «Сикорский» – «воздушная скорая». Отсюда, с вершины небольшого холма (прекрасное место для пикника), видны темные Катскиллы, изборожденные дымчатыми долинами, что тянутся на юг, к синему небу, на среднем плане – огороженный прямоугольник теннисных кортов (все заняты), а за ними – ведущее к Бингемтону и назад к Олбани шоссе 1-88. Шум движения сюда не доносится, и оттого пейзаж выглядит идиллическим.
– Перед тем как мы дали черной леди наркоз, она сказала мне: «Доктаа Баррис, если б нынешний день был рыбой, я бы выбросила его обратно в воду». И улыбнулась широчайшей улыбкой, показав все свои старые зубы, а через минуту уже спала.
Генри округляет глаза и старается подавить, притворно сжимая губы, гикающий хохот – представление, которое он привычно разыгрывает у постели больного.
– И что с ней стало? – Я осторожно высвобождаю запястье, взгляд мой никак не может оторваться от вертолета ярдах в тридцати от меня. Двое санитаров деловито загружают в него Пола Баскомба, скоро мы помашем друг другу на прощание.
– Ну так, а я о чем. Мы ее мигом в порядок привели, как приведем сегодня вашего Пола. Она видит все так же ясно, как вы, – по крайней мере, видела в то время. Сейчас-то уж наверняка умерла. Ей был восемьдесят один год.
Наш разговор вселяет в меня абсолютную веру в Генри Барриса. Собственно, он напоминает мне более молодого, сильного, более интеллигентного и несомненно менее скользкого Теда Хаулайхена. Я ничего не имею против того, чтобы он заштопал сетчатку моего сына, не чувствую, что это станет ужасной ошибкой и сожаления вскипят во мне, как расплавленный металл, чтобы затвердеть потом навсегда. Тут дело правильное во всех отношениях и именно по этой причине редкое. «Самый верный путь, – сказал Генри Баррис, – осторожность, потому что основной предмет наших тревог составляют проблемы, видеть которые мы не можем. (Очень похоже на покупку дома.) А в Йеле имеются врачи, которые на все уже насмотрелись». И это правда, поспорить готов; возможно, мне следует расспросить его о причине моих содроганий.
Моя же проблема лишь в том, что я не знаю, за какую внешнюю особенность Генри зацепиться моими собственными глазами, не могу почувствовать его – и вовсе не потому, что затрудняюсь определить интерес, который им движет. Им движут глаза: как приводить их в порядок, что с ними неладно, а что хорошо, как они наделяют нас зрением и как иногда подводят (это похоже на противопоставление доктором Стоплером сознания мозгу). Но чего я сказать не могу, пусть даже оно несущественно и значение-то имеет лишь для моего спокойствия, так это в чем состоит его загадка и где она кроется; я имею в виду ту часть его личности, которую вы открываете для себя, прожив рядом с человеком годы, научившись уважать его как профессионала и проникнувшись желанием открыть еще больше, чего ради решаете провести с ним отпуск в пансионате у отрогов Уинд-Ривер, или отправиться на пару в кругосветное плавание на сухогрузе, или на байдарках исследовать не нанесенные на карту берега Ватануки [112]. Каковы его неопределенности, что в его мире создано непредвиденностью, что тревожит его в неизбежности счастья или трагедии, в том неведомом, которое бороздят наши с вами утлые суденышки; каковы его опирающиеся на опыт рациональные обоснования желательности соблюдения осторожности? Бог свидетель, об Ирве я все это знаю, а обо мне каждый из вас может узнать ровно за 8,2 секунды. Что же касается Генри, то любой ключ к его разгадке мог бы сказать о нем очень многое, и сказать удовлетворительно, но ключей-то как раз никаких и не видно.
Не исключено, конечно, что рациональных обоснований у него нет, а есть только глаза, глаза и снова глаза, затем, на втором месте, – властная жена с величественным банковским счетом, и все это увенчивается его собственным черт знает каким положительным настроем. Иными словами, осторожность – его основа, а не надстройка. И источает он в точности те же здоровые, ледяные, лишь наполовину учтивые медицинские эманации, какие я уловил, беседуя с доктором Тисарис, хотя из-под врачебного халата доктора Т. на меня повеяло и кое-чем еще. Однако (и больше я сейчас об этом думать не буду) именно такие эманации вам и хочется получать от лечащего врача, особенно когда ваш сын нуждается в серьезной операции, а сами вы уверены, что никогда больше этого врача не увидите.
Энн ждет в нескольких ярдах под красным конусом ветроуказателя посадочной площадки, сверхуважительно беседуя с Ирвом; он, все в тех же «вьетнамках» и мафиозном кардигане, стоит, обхватив себя руками, в позе несколько женственной: бедра сведены, ступни чуть разведены – словно чувствует, что с такими, как Энн, следует быть начеку. Они обнаружили, что у них имелось несколько общих друзей по «Большому пальцу», что они отдыхали в пятидесятых в одном и том же лагере (с обучением игре на ксилофоне) Северного Мичигана и резвились там, точно мартышки, среди дюн, которые потом отутюжили бульдозерами, дабы разбить парк, – ну и так далее. Для Ирва сегодняшний день стал праздником цельности, Ирв погрузился в него с головой, точно в Ветхий Завет, хоть и сознает, что нашей с Энн цельности пришел полный капут и потому некоторые мерила прошлого ему лучше держать при себе (ту же фотографию, к примеру).
Энн продолжает бдительно поглядывать в мою и Генри сторону, время от времени посылая мне легкую, несколько недоуменную улыбку, а один раз даже погрозив пальцем, словно подозревает, что я могу передумать и броситься под винт вертолета, дабы спасти моего сына от спасения, задуманного ею и другими, и надеется удержать меня от этого простым мерцанием своих глаз. Но я не такой уж и упрямец и вообще человек слова – если, конечно, мне позволяют им оставаться. Наверное, ей требуется от меня лишь малый жест веры. Однако я чувствую: совершаются большие перемены, мы с изрядным запозданием начинаем смотреть фактам в лицо и единственное хорошее, что я могу для нее сделать, – это сохранить полную веры выдержку.
Конечно, я все-таки получил последнюю возможность снова войти в ярко освещенную палату Пола и попрощаться с ним. Он лежал, как и раньше, не испытывая вроде бы боли, полный некоей решимости, глаза его были по-прежнему забинтованы и даже заклеены, ноги слегка свисали с каталки – мальчик, выросший из отведенной ему мебели.
– Возможно, когда я выйду из больницы и если мне не присудят испытательный срок, я приеду, чтобы немного пожить с тобой, – сказал он, слепо глядя на свет. Можно было подумать, что это совершенно новая мысль, которая явилась ему в насланной успокоительным средством дремоте. У меня же закружилась голова, руки стало покалывать, как будто они обрастали перьями, – я-то думал, что об этом нечего и мечтать.
– Буду надеяться, что твоя мама сочтет это удачной мыслью, – сказал я. – Так жаль, что сегодня у нас ничего хорошего не получилось. В «Зал славы», как ты уже сказал, мы так и не попали.
– Не гожусь я для залов славы. Такова история моей жизни. – И он усмехнулся, как сорокалетний мужчина. – Скажи, а существует «Риелторский зал славы»?