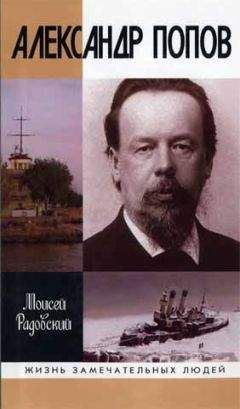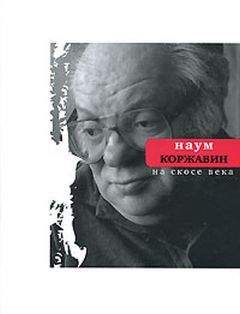День независимости - Форд Ричард
Ее крахмальный халат легко проезжается по косяку двери. И из-под его складок до меня впервые доносится некий экзотический запашок.
– Скажите папе, что он пытается слишком многое держать под контролем. И слишком часто тревожится, – говорит Пол. Бородавчатая, татуированная рука моего сына нащупывает его корень наслаждения, копается в нем и почесывает, совершенно как это делает Ирв – как будто свет выключен и никто ничего видеть не может. Затем Пол вздыхает: великая мудрость дарует великое терпение.
– Я непременно передам ему твои слова, – обещает доктор Тисарис профессиональным, не способным порождать эхо голосом.
И от этого голоса меня пробивает дрожь отнюдь не мелкая, перекашивающая губы, – содрогание начинается где-то в коленях и поднимается вверх, внезапное и достаточно сильное, оно вынуждает меня прочистить горло, отвернувшись в сторону и сглотнув. Это голос другого мира, заявляющего о себе: «Я непременно передам ему твои слова; увы, эта работа уже выполнена; мы хотели бы задать вам несколько вопросов; извините, я не могу сейчас разговаривать с вами». И так далее, и так далее, и так далее, вплоть до: «С прискорбием должны сообщить вам, что ваш отец, ваша мать, сестра, сын, жена, собака, ваш-кто-угодно-кого-вы-когда-либо-знали-любили-и-хотели-бы-пережить покинул нас, исчез, отозван, изранен, искалечен, истреблен». Между тем как мой – безмолвный голос тревоги, любви, терпения, нетерпения, товарищества, недомыслия, понимания и искренней покорности – остался тихим голосом прежней тихой жизни, теряющей почву под ногами. «Зал славы» – безликий, но общедоступный – должен был сыграть роль стартовой площадки, на которой благополучно началась бы новая жизнь (и это почти, почти случилось), но позволил опередить себя провинциальной больнице, полной медицинских прогнозов, без-эховых голосов, бодрого равнодушия, холодных жестоких фактов, которые невозможно смягчить. (Ну почему мы вечно оказываемся не готовыми, как я сейчас, к крушению наших планов?)
– У вас есть дети? – вопрошает Пол у загорелой докторши – таким же безэховым, как у нее, голосом.
– Нет, – самодовольно отвечает она. – Пока еще.
Мне следовало бы остаться, ознакомиться с его взглядами на воспитание ребенка – предмет, по части которого он обладает опытом уникальным. Да только мои ноги ничего о них знать не желают и потому потихоньку отступают назад, меняют направление и удирают, уносят меня куда подальше – через смотровую, к дверям; примерно то же происходило годы назад, когда я слышал у нас дома, как он горячо совещается с придуманными «друзьями», и не мог этого вынести, ослабевал, и душа моя начинала болеть от его вдохновенной, почти совершенной самодостаточности.
– Если родятся, – доносится до меня голос Пола, – никогда не…
Но и все, поскольку я торопливо проскакиваю сквозь металлические двери и возвращаюсь в прохладную, безликую комнату для родственников, знакомых, доброжелателей, к числу коих ныне принадлежу.
Четыре часа, Энн не появилась, мы с Ирвом решаем покинуть больницу, пересечь лужайку и выйти на улицы послеполуденной летней Онеонты – города, в который я при всех моих разъездах никогда не собирался заглядывать; никогда не думал, что стану в нем отцом на побегушках, хоть это уже многие месяцы и было моим modus operandi [108].
Настроение у Ирва отменное – результат ожидания ужасных событий, которые для него не так уж и ужасны: ему будет жаль, конечно, если все обернется к худшему, но никакой утраты он не ощутит. (Ирв сильно смахивает на второго мужа вашей тети Бьюлы, на Берни из Бисмарка, который взял на себя труд рассказывать анекдоты во время похорон вашего дедушки, изрядно подняв настроение всем присутствующим.)
Мы целеустремленно переходим участок постриженной бермудской травы и попадаем на теплый тротуар протянувшейся по холмам Главной улицы, которая круто спускается к центру города; сейчас она даже оживленнее, чем в час, когда богомольцы шли по своим церквам. Вдоль улицы растут огромные косматые гикори и американские каштаны, отпрыски первобытных широколиственных лесов центральной части нашей страны, пробившие корнями престарелый, растрескавшийся бетон, чтобы бросить укоризненный вызов фланерам. Вдоль нисходящей улицы выстроились в две шеренги покосившиеся каркасные дома, построенные на подпорных стенах, с годами посеревшие и подгнившие, грозящие осесть (если ничто не будет предпринято – и побыстрее) и обесцениться совершенно. Одни из них заброшены, перед другими плещут американские флаги, у третьих воткнуты таблички: «СДАЕТСЯ», «ПРОДАЕТСЯ», «РАЗОБРАТЬ И ВЫВЕЗТИ. БЕСПЛАТНО». В нашем деле такие дома называются «без плотника не обойтись», «первый дом новобрачных», «не каждому по вкусу», «дом с закидонами», «назовите вашу цену» – унизительный жаргон упадка.
Ирв, на то он и Ирв, вознамерился обсудить важную для него тему, в данном случае тему «цельности», которая является теперь, во всяком случае, так ему кажется, «главным вопросом» его жизни, – Ирв понимает, впрочем, и с готовностью признает это, что озабоченность ею может быть «соотнесена» с его еврейством, с необходимостью борьбы за существование, с гнетом истории и со значительной частью его жизни, проведенной им – после того как первый брак пошел прахом, развалив эту самую цельность по полной программе, – в кибуце, где он мотыжил сухую, немилосердную землю, читал Тору, отслужил шесть изнурительных месяцев в израильской армии и со временем женился на другой кибуцнице (родом из Шейкер-Хайтса, Огайо); брак этот, впрочем, также оказался недолгим и завершился мучительным, оскорбительным, удручающим (в религиозном отношении) разводом.
– Я многому научился в кибуце, Фрэнк, – говорит Ирв, шлепая «вьетнамками» по растрескавшемуся тротуару. Мы быстрым шагом идем по Главной, никакой особой цели у нас нет, однако мы приближаемся к красной вывеске «Молочной Королевы», которая виднеется внизу, в коммерческом районе Онеонты, где жилые дома отсутствуют, а чужака могут, наверное, ожидать неприятности (район переживает пору перемен).
– Все, кого я знаю из побывавших там, говорят, что это интересно, даже если им не очень понравилось, – говорю я.
На самом деле, за вычетом Ирва, я не знаю ни единого жившего в кибуце человека, а все, что знаю, прочел в трентонской «Таймс». Впрочем, словам Ирва о тамошней жизни верить можно, поскольку человек он достойный, думающий и отнюдь не зануда. (Я уже вспомнил, каким он был в отрочестве: жизнерадостным, уживчивым, легковерным-но-сложным «крупным» мальчишкой, который слишком рано начал бриться.)
– Знаешь, Фрэнк, иудаизм не ограничивается стенами синагоги, – торжественно сообщает Ирв. – Пока я рос в Скоки, мне это в голову не приходило. Да и семья наша какой-либо религиозностью не отличалась.
Шлеп-шлеп, шлеп-шлип, шлип-шлап. По Восточной Главной разъезжают местные хулиганы с их местными зазнобами – вздувшиеся бицепсы, понтиаки «транс американс» и шевроле «С-10». («Монзы» отсутствуют.) Мы с Ирвом бросаемся здесь в глаза, как парочка латышских пентюхов в национальных костюмах, однако нам это по фигу – как-никак мы в своей стране. Один лишь общий язык должен бы гарантировать нам минимальную приемлемость в окружности с радиусом в две тысячи миль и центром в Канзас-Сити, хотя, испытывая судьбу, всегда можно нажить неприятности, точно так же, как в кибуце, и по нам уже проезжаются злобные взгляды.
– У тебя есть дети, Ирв? – спрашиваю я. Говорить сейчас о религии – о цельности еще куда ни шло – мне трудновато, я предпочел бы любую другую тему.
– Детей нет, – отвечает Ирв. – Я не хотел заводить их, из-за этого у меня со второй женой все и развалилось. Она потом сразу же вышла замуж и нарожала целую кучу. Я с ней даже связи никакой не поддерживаю, а жаль. В общем-то, мне там бойкот объявили. Вот уж не думал, что такое может случиться.
Ирв выглядит удивленным, но готовым печально примириться со всеми загадками жизни.