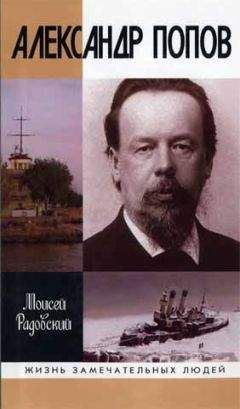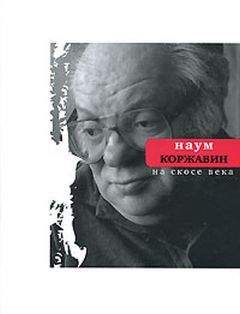День независимости - Форд Ричард
(На меня Ирв впечатления потенциального сторонника Джексона [107] не производит.)
Я почти все время молчу, с печалью думаю о сыне и о нынешнем дне – две горестные, непомерные потери, не оставляющие никаких надежд на возвращение к былому. Ничего выглядящего не осталось. Только то, что есть. В мире получше нашего Пол голыми руками поймал бы мяч, отбитый одним из псевдоигроков «А», и удалился бы в «Зал славы», гордясь своей распухшей ладонью, и провел там приятное, но не чрезмерно, время, заглядывая в шкафчик, в котором Бейб Рут держал в раздевалке свои вещи, а затем просматривая видеозапись вынужденного аута, сотворенного Джонни Бенчем на второй базе, слушая записанный в тридцатых стадионный гул. Потом мы вышли бы в мерцающее солнечное воскресенье (Пол так и держал бы в руке пойманный мяч), выпили эля Беспечных девяностых, я раздобыл бы аспирин, уличный художник нарисовал бы карикатуру, на которой мы стоим рядом в винтажных бейсбольных костюмах, мы посмеялись бы, побросали «фрисби», запустили с берега какой-нибудь безлюдной озерной заводи мои сигнальные ракеты и завершили этот день пораньше, лежа в траве под пережившим многое ильмом, и я растолковал бы сыну, чем так ценны хорошие манеры, объяснил, что здравомысленная приверженность прогрессу (хоть это всего лишь христианская выдумка) все-таки еще остается достойным, прагматичным украшением жизни, которая может оказаться непредсказуемой и долгой. А еще позже, ведя машину на юг, я свернул бы на проселочную дорогу и позволил ему поупражняться в вождении, и потом мы разработали бы план на будущее, на время, когда останутся позади его трения с законом, – план осеннего возвращения Пола в Хаддам, в его прежнюю школу. Иными словами, у нас получился бы день, который будет вспоминаться и когда он отодвинется в далекое, ставшее безобидным прошлое, когда будет проложен многообещающий курс в грядущее, основанный на постулате о том, что независимость и изоляция – это не одно и то же, когда все концентрические круги встанут по своим местам и расцветет, как она расцветает лишь в молодости, подлинная юношеская синхронистичность (без гавканья и ииик’ов).
А вместо этого – чувство вины. Боль. Укоры. Слепота (или, самое малое, корректирующие линзы). Мрак. Скука (в состав которой входят долгие одинокие поездки в Нью-Хейвен и окончательное крушение попыток достичь чего-то большего, нежели уклончивость и несогласие). Всем этим мы могли бы обзавестись, и не выезжая из дома или заново навестив рыбоподъемник. (Уверен, теперь Пол ко мне ни за что не переедет.)
Ирв молчит то ли из уважения ко мне, то ли от скуки, машина переваливает последний холм над 1-88, и я вижу сквозь тонированное ветровое стекло длинное, извилистое, как река, кукурузное поле, сбегающее к узкой долине Саскуэханны, именно там и встречаются две дороги. Из-под высоких зеленых стеблей взвивается и летит над кукурузными кисточками фазан; перелетев ограждение шоссе, он расправляет крылья, пересекает четыре полосы движения и опускается на траву разделяющего дорогу газона.
Кто или что вспугнуло его? – гадаю я. Неужели здесь, на шоссе, он в большей безопасности? Удастся ли ему уцелеть?
– Знаешь, Фрэнк, в моем деле популярна одна метафора, некоторые даже одержимы ею, – говорит Ирв. Молчание, похоже, наскучило ему, и, когда мы сворачиваем на запад, к старой кирпичной Онеонте, он начинает излагать все, что приходит в голову. Привычка человека, который слишком много времени проводит в одиночестве. Я эти симптомы знаю. – Когда втягиваешься в имитацию, все прочее кажется уже неинтересным. Ты думаешь, что сымитировать можно все. Другое дело, – он поворачивает ко мне голову, подчеркивая серьезность своих слов, – те, кому имитация дается лучше прочих, кто приходит в нее с работы в офисах. Может, они и необязательно гении, но считают, что имитация – это одно, а жизнь – совсем другое. На самом деле имитация – всего лишь инструмент. – Ирв двумя пальцами поправляет свой собственный, сокрытый спортивными брюками, инструмент. – Начнешь путать одно с другим – жди неприятностей.
– Я понимаю, Ирв, – говорю я. Он прикатил в Куперстаун ради одной из завтрашних «Фантастических игр О’Мэйлли» (с «Белыми Носками» 1959-го), добрый и милый, в сущности, человек. Жаль, что мы с ним не сошлись поближе.
– Ты женат, Фрэнк?
– Уже нет, – отвечаю я, чувствуя, как затекли и ноют руки, да и плечи тоже, как будто это я пережил несчастный случай или состарился за час на двадцать лет. Я еще и зубы стискиваю – чует мое сердце, к утру я лишусь не одного ангстрема драгоценной эмали. Заметив синий знак с белой «Б», я указываю на него Ирву, и мы, следуя этому указателю, углубляемся в город, каждая церковь которого проводит сейчас собрание прихожан, отчего машин на улицах почти нет.
– Эрма проходит испытательный срок как претендентка на должность моей третьей жены, – трезво сообщает Ирв, по-видимому всерьез размышляющий над самой концепцией жен (но не над тем, где сейчас Эрма). – Когда видишь здоровенного некрасивого малого вроде меня, а рядом с ним хорошенькую девочку наподобие Эрмы, то понимаешь: все дело просто-напросто в везении. Только в везении. Ну а еще нужно уметь слушать другого.
Он слегка выпячивает, совсем как Муссолини, толстые губы, показывая свою готовность начать слушать – было бы кого.
– Вы в «Зал славы» зайти успели?
– Как раз туда и направлялись, Ирв.
Я ищу глазами еще одну «Б», но не нахожу и нервно гадаю: а вдруг мы пропустили ее и теперь проедем через весь город и, двигаясь в неверном направлении, снова окажемся на шоссе, в точности как в Спрингфилде? А драгоценное время уходит.
– Когда все закончится, загляните, он того стоит. Получите немалое удовольствие. Это образование в чистом виде, хотя информации получаешь там больше, чем можешь переварить за день. Те ребята, ранние, играли потому, что им нравилось играть. Потому что умели. Они не думали о карьере. Это была просто игра. А сейчас, – Ирв неодобрительно покачивает головой, – она стала бизнесом.
Он умолкает. Я понимаю, что Ирв пытается сделать все от него зависящее для своего давно утраченного не-вполне-брата, которого он, быть может, вспомнил теперь в мельчайших подробностях, сообразив заодно, что никогда так уж его не любил и был бы рад в глаза больше не видеть, хотя может, конечно, имитировать сердечность и помогать ему примерно так же, как помог бы заносимому снегом калеке-автостопщику, будь тот даже беглым уголовником.
– Такими, какие мы есть, нас делает неуправляемый случай, а, Фрэнк? – говорит Ирв, меняя тему разговора, и тут же круто сворачивает налево, на не замеченную мной тенистую дорожку, что ведет к новехонькому трехэтажному зданию, кирпичному, с большими окнами, с блестящими антеннами и тарелками радиосвязи на крыше. Больница имени А. О. Фокса. Ирв очень внимателен, а я совсем ослеп с перепуга.
– Верно, Ирв, – говорю я, хоть половины им сказанного не расслышал. – Во всяком случае, можно считать и так.
– Я уверен, парню уже лучше.
На дорожку навстречу нам выезжает, покачиваясь, желтая куперстаунская машина «Линия жизни», мигалки ее выключены, в грузовом отсеке темно, как будто там только что кто-то умер. Мисс Осталетт сидит за рулем, курит и с воодушевлением вещает о чем-то, ее безымянный напарник едва различим в тенях пассажирского сиденья.
– Дом, милый дом для увечных, – объявляет Ирв, останавливая машину у раздвижных стеклянных дверей с простой табличкой «Скорая». – Ты давай внутрь, Фрэнки, – улыбается он мне, когда я вылезаю из машины. – А я поставлю где-нибудь эту зверюгу и найду тебя.
– Ладно.
Ирв излучает безграничное сочувствие, которое вовсе не означает, что я ему нравлюсь.
– Спасибо, Ирв, – говорю я, на миг заглядывая в машину, из которой тянет прохладой, между тем как вокруг шпарит горячее солнце цвета пушечной бронзы.
– Имитируй спокойствие, – говорит Ирв.
Внутри здания начинает звонить колокольчик.