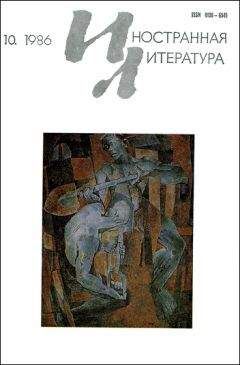Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Я ушёл назад в киоск раньше, чем проснулась Болетта. Она стала ночным существом. Спит исключительно днём. Я уселся на раскладной стул, откупорил пиво, но шторку поднимать не стал. И приписал кое-что к разделу «места»: чердак. Во что превращается место, когда его стирают с лица земли, уничтожают? Остаётся ли оно в виде точки на старой, непригодной теперь карте? Но поднять мысль на должную высоту мне не удалось, я замер в прыжке, мне недостало не только высоты, но и длины тоже. Я съел шоколадный банан и не удержался, взялся за старые «Коктейли» времён среднего возраста Эстер. Я быстро пролистнул фотографии видных собою дамочек, поблекших за минувшие годы, вид у них был смущённый, сидя на корточках в ваннах с шапками пены меж грудей, они, казалось, боролись не то со сном, не то со слезами. А я-то таскался аж на Фрогнервейен за этими «Коктейлями»! Но и другая мысль посетила меня, покуда я ковырялся в этих заветных архивах: не написать ли и мне в этот журнал заработка ради? Если кое-что убрать и добавить остренького, то происшествие во Фрогнерпарке, когда Вивиан лишила меня невинности, должно, пожалуй, подойти. Мокрую осень можно поменять на тёплую летнюю ночь, когда в кронах рассеян мягкий покойный свет. Вивиан станет у меня одинокой женщиной из высшего света, ей под тридцать, она отправляется на прогулку верхом, а я буду садовником, бедным, но гениальным, и вот я выпалываю сорняки у Беседки, а она накидывается на меня с тем точно безумством, как было на самом деле, валит на землю решительно и жадно. Или лучше написать порнографическую комедию? О таком я ещё не слышал. Что не странно, понял я, поразмышляв немного. Разве смех и порнографию можно впрячь в одну упряжку? Романтичность смешлива, но порнография — это в первую очередь тишина и вожделение, а в ком возбудит похоть смешной чудик? Я записал и эти рассуждения тоже. Тут кто-то постучал в заднюю дверь киоска, выходившую в подворотню. Я не успел даже встать. Они вошли, трое, встали вокруг моего стула, один вынул из холодильника бутылку колы и тут же съездил ею мне по лбу. — Пристаёшь к моему брату? — заорал он. Я видел их впервые в жизни. Но без труда опознал в них продолжателей дела Аслака, Пребена и Хомяка. Всегда подрастёт молодая смена, которая понесёт дальше знамя мучительства. Вот — стоят передо мной. Я почувствовал, как рука стиснула мне горло. Меня повалили назад и тот, кто орал, пнул мне по яйцам. — К брату моему пристаёшь? — кричал он. Я услышал хруст, как будто что-то треснуло, сперва до меня дошёл звук, а боль — потом, и в этот белый промежуток, в зазор между хрустом чего-то ломающегося и волной тяжёлой, душащей боли, я провалился глубоко-глубоко. Он имеет в виду мальчишек, которым я отдал «Коктейль» и потрепал по голове? Я хотел объясниться, но голос пропал. Помню, что внезапно я оказался распростёрт на полу, кто-то стоит у меня на загривке и тот же самый голос орёт. — Развратник хренов! Пригрелся здесь и дрочишь! — Я не мог дышать. Поэтому выжидал. Я просто ждал. И это тоже пройдёт. Так вот, значит, какая обо мне молва: грязный недомерок из киоска, который без денег раздаёт сладенькое и лезет к покупателям с нежностями, вот до какой репутации я дожил. Я мог бы позвать на помощь полицейского из Городочка. Или Фреда. Но полицейский ушёл домой, а Фред неизвестно где. Я успел подумать, что никогда ещё не был настолько одинок. Блеснул нож. Они разрезали на мне пояс, вынули его и отхлестали меня по лицу. Пряжка зацепилась за глазницу, впилась, точно крючок, полилась кровь. Наверно, кровища их и напугала. Во всяком случае, они ретировались, напоследок расколотив ящик, служивший мне подставкой, и вылив на меня воду из-под сосисок. Потом стало темно и беззвучно. Когда я очухался, видел лишь один глаз. Я сумел подняться на ноги. У двери висела запасная рубашка, на случай, если я обляпаюсь кетчупом или горчицей. Я переоделся. Прибрался. Выкинул «Коктейли» и сосиски в мусорку в подворотне. Потом спустился в салон красоты на улице Якоба Ола, где работала Вивиан. Я частенько заглядывал к ней под конец дня. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как она колдует над усталыми дамочками Майорстюен и Фагерборга, как она нянчится с ними, упрятывает морщинки, подтягивает лицо для триумфа на час-другой, тихая кухня тщеславия, лишь изредка прерываемая коротким обменом репликами, наверняка о новой причёске телеведущей или новейшем ночном креме из Парижа, который и мёртвого проймёт. Клиентки всегда возвращались к Вивиан. Они не могли жить дальше без неё, кудесницы. Сейчас она трудилась над пожилой дамой, накладывала тени на обрюзгшую кожу, и я подумал с какой-то неприязнью даже, что всякая красота, по большому счёту, обман. Но вот Вивиан увидела меня в зеркале. Поставила всё, что держала в руках, и подошла к моему стулу. — Бог мой, ну и видок у тебя, — прошептала она. — На меня напали. — Вивиан наклонилась поближе. — Тебе надо к врачу, Барнум. — Лучше сама меня подправь. — Подожди в задней комнате, — прошептала она. — Я напугал клиентку? — Да, — призналась Вивиан. Я ушёл в заднюю комнату. Дурманный смрад кремов и косметики сморил меня, и я заснул. Разбудила меня Вивиан. Подошла моя очередь. Салон был закрыт, и я наконец-то смог устроиться в мягком кресле перед зеркалом. Я не узнал своего лица. Какой-то чужой человек. Вивиан ватным тампоном стёрла кровь. — На тебя правда напали? — Да, но поживиться им особо не удалось. — Ты заявил в полицию? — Вивиан, это школяры какие-то. Я не хочу ломать их жизни. — Вивиан вздохнула. — Слишком ты добрый, — сказала она. Я засмеялся: — Торгаш-горемыка — вот я кто. — Мне нравилось, что она наводит мне красоту. И нравились её мягкие, но в то же время бестрепетные руки. — Угадай, какая новость, — сказал я. — Нет, сдаюсь. — Чердак над мамой будут перестраивать в мансарды. Мы могли бы заиметь квартиру там. — Тебе хочется? — Ты ж не собираешься оставаться в одной комнате, когда появится ребёнок? — Вивиан взглянула на меня в зеркало. — Ты думаешь, мы сподобимся сделать ребёнка? — спросила она. — Я иду завтра в Национальный госпиталь, — ответил я. — Отлично. — Вивиан продолжила работы по восстановлению моего лика. Она промыла раны и наложила мазь на веко. — И румян, пожалуйста, — учтиво попросил я. Вот так и получился мой глаз, который всех раздражает и озадачивает, потому что оказалось, что нервы в левом глазу атрофировались, я не чувствую теперь его, так что веко частенько сползает вниз, а назад его не заткнёшь, и кажется, будто я подмигиваю хитро, народ думает, что я уже набрался, или сплю на ходу, или просто сам по себе такой нахал и задавака, а в лице появилось что-то порочное, подозрительный перекос, открытая и закрытая половины, круговые мускулы лица не работают совсем, и про меня шутят, что у меня лицо в пол-лица.
(барнум и его божественная комедия)
Лил дождь. Я сроду не видел, чтоб так лило. Стена воды с вкраплениями листьев падала наискось с низкого свинцового неба. Я задёрнул занавески и вернулся в постель. Скромный, прозрачный контейнер, присланный мне Национальным госпиталем, оказался никудышным изобретением. Чтоб попасть в него, надо было целиться, лёжа на боку в особо неудобной позе, и в то же время поддерживать эрекцию, от этих двух взаимоисключающих движений в голове у меня случилось короткое замыкание, я чувствовал, что мысли перегорели, гипофиз истощился, в причинном месте — мягкая вата. В мошонке жгло. Когда я сжимал яйца, казалось, что это мешочки, набитые осколками стекла. Вивиан вышла из ванной. — Не получается? — спросила она. — Пока работаю. — Помочь? — Не откажусь, — ответил я. А что мне оставалось? Я был беспомощен. Вивиан легла у меня за спиной, погладила мне живот и решительно взялась за моего дорогого. И давай наяривать, как бешеная. Словно у меня там сорванный кран, который нужно закрутить посильнее. Мёртвое веко упало на глаз, заперев половину меня во мраке и родив неприятную мысль, внезапный отвратительный образ, от которого робкие намёки на возбуждение вновь и навсегда испарились из головы: веко — это крайняя плоть глаза. — Полегче, — попросил я шёпотом. — Тебе больно? — Немного. — Вивиан ослабила хватку, перелегла на другую сторону и взяла мой член в рот. Тут только я осознал, сколь для неё важно, чтобы мне удалось наполнить злосчастный контейнер этой серой, вязкой щелочной слизью. Она никогда не брала его в рот, и я, конечно, не просил. От глубины потрясения у меня немедленно встало колом, он торчал меж губ Вивиан прямой и напряжённый, остальное было вопросом времени. За окном лило не переставая. Шум дождя окружал нас, будто мы были на островке посреди вздыбившейся полноводной реки. — Угу, — прошептал я. Вивиан отстранилась. Я скрючился над контейнером и прилежно спустил в него. Вивиан уже держала наготове салфетку. Она отёрла то, что перелилось, и закупорила крышку. Потом закрылась в туалете, и было слышно, что её рвёт. В течение трёх часов контейнер надлежало доставить в лабораторию Национального госпиталя, где моё семя или признают годным к долгому путешествию на встречу с яйцеклеткой Вивиан, или отправят в ближайший мусорный бачок. Я посмотрел на часы. Было десять утра. Вивиан присела ко мне опять. — Сходить с тобой? — спросила она. Я взял её руку. — Этого не требуется. Но за предложение спасибо. — В таком случае береги свой товар. — В такой манере мы теперь общались. Это называлось моим товаром. В наш язык закрался холодок. Мы мерили отношения графиком температуры. Отсчитывали дни между менструациями и отмечали их на календаре. Я был поставщиком товара. Но в её магазин я не отгружал его давно. Так мы и разговаривали. — Я возьму такси прямиком в лабораторию, — сказал я. Она чмокнула меня в лоб, взяла зонтик и ушла в салон красоты. Я решил ещё поваляться. Слышно было, как она идёт вниз по лестнице. Гудел ветер, шумел дождь. Контейнер лежал рядом со мной, на дне серый осадок, мой товар, при определённых условиях — половина человека, неполная матрица. Я принял душ, оделся во всё чистое, выкурил сигарету и позвонил в заказ такси. Трубку никто не брал. А потом исчезли и гудки тоже. Я набрал номер стоянки на Санктхансхауген. Занято. Попробовал стоянку на Майорстюен. Тоже короткие гудки. Снова набрал центральный коммутатор. Через двенадцать примерно минут включился автоответчик. В настоящее время линия перегружена. Попробуйте позвонить на одну из наших шестидесяти стоянок. Я опробовал уже две. Но набрал ещё одну, на Бишлете. Тоже занято. А времени половина одиннадцатого, поджимает. Я схватил свой дождевик, сунул контейнер во внутренний карман и побежал к стоянке на Санктхансхауген. Там не было ни одной машины. Только телефон в зелёной будке звонил и звонил. Дождь шпарил со всех сторон. Я пошагал дальше, вверх по Уллеволсвейен, но у киоска меня окликнули по имени. Я остановился и огляделся. Он сидел на скамейке у пруда. — Барнум! — крикнул он второй раз и помахал мне. Я подошёл к нему. Через не хочу, но всё-таки подошёл. Это был Хомяк, мучивший меня всю школу. До меня доходили некоторые слухи о нём, и было видно, что молва не врёт. Теперь мучился он, но во мне не было ни капли жалости к нему. Он был похож на Дастина Хоффмана из «Полуночного ковбоя», уже post mortum. Характерный сухой взгляд. Первой моей мыслью было, что и я мог бы сидеть сейчас на этой лавочке (не исключено, что так и будет когда-нибудь), один в парке под проливным дождём, разница между нами лишь в том, что я предпочитаю спиваться медленно и обстоятельно, а он выбрал химию прямо в кровь, бомбу немедленного действия. У него на лице выпирали узлы сосудов. Он надел солнечные очки. — Это ты, Барнум? — Я кивнул. — Узнал меня, да? — Нет, — ответил я. Хомяк с трудом усмехнулся: — Не тренди. Я дружил с твоим брательником. — Дружил? — Да, ядрёна вошь, мы с твоим братаном были неразлейвода. — Я подумал: вот ведь как время и пьянство превращают ложь в вещь само собой разумеющуюся, чтоб не сказать в условие существования. — Припоминаю, — сказал я. А Хомяк поднял руку и растопырил жёлтые пальцы: — Ну, что я говорил. Мы ж друзья с тобой. — Со мной? — Ядреныть, Барнум, не я ли всегда любил тебя? — Это из любви ты меня мордасил и поедом ел? — Хомяк попытался раскурить бычок. Огонь захирел прежде, чем он сделал затяжку. — Это не я. Били тебя Аслак с Пребеном. Ты что, забыл? — Я ничего не сказал. Это был такой мой ответ. — Барнум, я пытался останавливать их. Так что не выделывайся. — Сил слушать это дальше не было. — Приятно было повидаться, Хомяк, — сказал я. Но он не дал мне уйти. В нём всё ещё была сила, худая, жилистая мощь, или просто произошло паническое сокращение мускул. Я почувствовал, как хрустнул контейнер во внутреннем кармане. — Отпусти, какого хрена! — заорал я. Он выпустил меня. Спросил шёпотом: — Деньжат не подкинешь? — Я дал ему пятёрку. Он тупо посмотрел на неё и убрал в карман. И будто сжёг мосты: взять с меня, окромя пятёрки, нечего, так что можно не юлить дальше, а по-честному дать выход злобе. — Сикилявка, нос задираешь? — закричал он. Я молча пошёл. А в спину мне смеялся Хомяк, и вдруг, внезапно, я перестал выносить его, этот смех Хомяка. Я развернулся и пошёл назад. Ужо разберусь с ним, раз и навсегда. Теперь Хомяк слабее, и пусть даже не думает чалиться. Сейчас я ему это растолкую. Проучу его. Пришло время отмщения, сегодня, сейчас, много лет спустя после того дня, как они вытрясли всё из моего ранца на Холтегатен и спустили с меня штаны на Риддерволдспласс. Воздастся ему за мои бессонные ночи. Могу его башмаком растереть. Я остановился перед Хомяком. Он не рискнул поднять глаз. Я сшиб с него очки. Будь у меня зеркало, я б ему показал, во что он превратился. Я постоял так какое-то время. Потом швырнул ему на грязные колени ещё пятёрку и ушёл, ни слова не сказав. Пусть подавится. Эта пятёрка будет жечь ему руки. На стоянку подрулило такси. Я бросился к нему, но, добежав, вспомнил, что у меня ни копья. Хомяку я отдал последние деньги. Я оглянулся на скамейку. Сквозь дождь видно было только плоскую, синюю сигаретную пачку и солнечные очки. Хомяк испарился, больше я не видел его никогда. Какая-то старуха, увешанная пакетами из «монопольки», вскарабкалась на заднее сиденье, и машина тронулась. Она обернулась и с улыбкой помахала мне сквозь мокрое стекло, ни дать ни взять покойница, которая вдруг приподнялась в катафалке и махнула тебе последнее прости-прощай. Я узнал это бледное лицо — Шкелета, фрекен учительница, помахала ручкой своему бывшему ученику, оставшемуся стоять под дождём, и пропала за мокрой пеленой. Я бегом припустил в банк на улице Вальдемара Тране — снять денег со счёта. Часы над дверями показывали половину одиннадцатого. Я заполнил бланк и протянул его в окошко вместе с паспортом. Кассирша, молодая женщина моего, наверно, возраста, потратила на эту простую операцию немало времени. Она то и дело посматривала на меня, ротик у неё был маленький и красный. Веко снова распустилось и сползло вниз. Кассирша тут же отвела глаза. Стрелка подходила к одиннадцати. Меня одолевало отвратительное чувство, что я попал в засаду, завяз, как в горячечном бреду. — Я опаздываю, — напомнил я шёпотом. Молоденькая кассирша мотнула головой и вернула мне паспорт. — Сожалею, но у вас на счету ничего нет, — сказала она, да громко так, считая меня, видимо, глухим и умственно отсталым, и её маленький червлёный ротик вытянулся, как рупор. — Тогда — пока, побегу заработать ещё деньжат, — ответил я так же громко. Но конечно же дальше в очереди стоял папаша Вивиан, Александр Вие собственной персоной, которого я не видел с того самого ужина. Видимо, он давно заметил меня, потому что ничуть не удивился, столкнувшись нос к носу. Только посмотрел на меня сверху вниз и произнёс: — Пойдём выпьем по чашечке кофе. — Часы со звоном отбили четверть двенадцатого. Я сунул руку во внутренний карман и посмотрел на господина Вие. — Я ужасно, ужасно опаздываю, — прошептал я. Он чуть раздвинул губы в улыбке. — Ну так не будем мешкать! — Он вышел из очереди, и я последовал за ним. Дождь всё лил. Мне пришлось идти под его чёрным зонтом. Не самое приятное в жизни. Мы зашли в «Гриме Эллинг» и расположились у окна, Он заказал нам кофе с венской сдобой и взялся протирать очки, коротая ожидание. В кафе было слишком натоплено. С меня струился пот. Я подумал, не повредят ли моему товару такие перепады температуры. Александр Вие вскинул на меня глаза: — У тебя с сердцем нелады? — Нет. С чего вы взяли? — Ты всё время держишь руку на сердце. — Я положил её на стол. Вернулся официант, само проворство. В серёдке сдобы, которую он поставил передо мной, серело тёплое болотце глазури. Я зажмурился. О том, чтоб есть, не могло быть и речи. Но я пил кофе. В паху болело. Пройдёт скоро, наверно. — Я извиняюсь, что так вышло, когда вы ужинали у нас, — сказал Александр Вие. — Всё в порядке, — ответил я. — Мы были очень рады. — Понятно, — просипел я. От жары я вспотел уже чудовищно. Может ли человек быть бесконечно вежливым вплоть до того, чтобы кончиться из-за своей деликатности? Или это не деликатность, а застенчивость, попросту говоря, покорность и слабость, безволие, наконец, которые превращают тебя в раба, заложника обстоятельств? Александр Вие пригнулся к столу, и я увидел, как он изменился. В нём появилось мрачное успокоение, глубочайшеe смирение человека, принимающего жизнь как данность и не ропщущего: всё равно ничего не изменишь. — Из-за какой-то малости всё вдруг раз — и коту под хвост, — прошептал он. — Я знаю, — ответил я. Он опять улыбнулся, не широко и открыто, а смиренно, как бы улыбнулся вместо того, чтобы пожать плечами или повздыхать над бесконечной глупостью мироустройства. Улыбка вышла красивая, сеющая тревожность. Я совсем потерял покой. — Знаешь, да? — переспросил он. — Мне правда уже пора, — сказал я. — Ты ещё не всё съел, — ответил он. Я съел сдобу. Вязкая глазурь потекла по губам. Я старался заглотить всё как можно быстрее, но липкая масса пристала к языку. Я втянул в себя остатки кофе. Александр Вне протянул мне салфетку. — Спасибо, — пискнул я. Он нагнулся ещё ближе: — Одно слово тянет за собой другое. Секунда — и всё уже сказано, назад не заберёшь. — Я вытер рот жёсткой салфеткой. — Да уж, — ответил я. Но он меня не слушал, его занимали собственные слова. — Это точно, как судебное разбирательство, где свидетель наговорил так много лишнего, что его самого привлекли как обвиняемого. — Не совсем понимаю, — сказал я. Александр Вие поднял чашку, а потом бережно поставил её обратно. Кофе простыл прежде, чем чашка коснулась стола. — Когда моя жена изувечилась в аварии, я подумывал бросить её, — сказал он. Слушать это было выше моих сил. Ничего больше не желаю знать! — Но вы же не бросили! — Я почти кричал. Александр Вие помотал головой: — Не бросил. Остался с Анни… из жалости. — Это не самое худшее, — вставил я. Александр Вие засмеялся низким, ворчливым смехом: — Барнум, Барнум, жалость — всего лишь разновидность презрения. — Я глубоко вздохнул. — У вас ещё есть дочь, — сказал я. Александр Вие опустил глаза долу, он смутился на мгновение, значит, смирение его не было таким уж полным, в его мрачном всеприятии оставался-таки зазор, куда мало-помалу проникал свет. Александр Вие заговорил о другом: — Ты веришь в случайности? — спросил он. — Встретил же я вас в банке сегодня, — ответил я. — В этом не было ничего загадочного. Я должен был заплатить за вашу квартиру. — Что? — Я думал о другом. О том, что мама твоя рассказала — оказывается, у твоего отца был «бьюик». — Отец был прекрасным водителем, — сказал я. Александр Вие улыбнулся: — Не сомневаюсь. Ты, кстати, веришь в то, что можно снова сделать всё хорошо, как было? — Я не верю в случайности, — ответил я. Александр Вие замолчал. Помолчав, прошептал: — Разве не странно, что люди не поддаются починке, а? — Потом он вынул из кошелька двести крон и положил на стол. — Купи вечером чего-нибудь порадовать Вивиан. — Я не собирался брать деньги. — В этом нет нужды, — ответил я. — Мне хочется, чтоб ты подарил Вивиан что-нибудь особенное. — Нет никакой необходимости, — повторил я. Но Александр Вие не сдавался. Похоже, никто не принимает мои слова в расчёт. Вие стал запихивать деньги мне в карман. Я вцепился в контейнер. — Спасибо большое, — сказал я. — Передай, что нам её не хватает, — прошептал он. — Хорошо, — ответил я. Встал и вышел. Дождь не кончился. На стоянке не было ни одной машины. Телефон по-прежнему надрывался. Скоро дождь возьмёт трубку и ответит. Я припустил бегом вниз по Уллеволсвейен. Времени уже без четверти двенадцать. Но, пробегая мимо чёрной ограды кладбища, я увидел за ней беспомощный силуэт и узнал его. Я остановился. Как же быть? Подойти к ней или исполнить свой долг, сегодня состоявший в том, чтобы сдать мой товар в лабораторию Национального госпиталя до часа дня? Там между надгробиями тыркалась Эстер. Она молотила воздух палкой, то ли желая отдубасить скверную погоду, то ли пытаясь открыть заевший зонт. Нет, выбора у меня не было. Я отыскал калитку и пошёл к ней. Вела ли меня та жалость, которую Александр Вие определяет как презрение особого рода? Нет, ибо другая возможность, пройти мимо, была бы цинизмом чистой воды, безразличием к тому, что касается здоровья и личной гигиены, а это поражает самого носителя и чревато грозными осложнениями. Да и сердце у меня не столь прихотливое, как у Александра Вие. Я остановился в нескольких шагах поодаль от неё, чтоб не угодить под палку. — Привет, Эстер, — поздоровался я. Она медленно завершила свой бой с дождём. В глазах пустота. — Это я, — сказал я. Она стояла как изваяние. Я подошёл поближе и вытянул руку. Она отпрянула. — Эстер, ты меня не узнаёшь? — Она мелко-мелко замотала головой. То ли вообще не поняла, что я сказал, то ли у неё и речь тоже померкла. Я заметил, что под пальто на ней лишь жёлтая ночная рубашка. А на ногах коричневые расползающиеся тапки. — Это я, Барнум, — прошептал я чуть слышно, — который торгует в твоём киоске. — Но слова не достигали её. — Ириски, — попробовал я зайти с другого бока. Пустота в её лице лишь сгустилась. Какой же сигнал мне ей подать, на что она клюнет? Я вытащил из внутреннего кармана контейнер и чуть встряхнул его, так что осадок перетёк на другую сторону, внезапно напомнив мне стеклянные шары, внутри которых начинает сыпать снег, если перевернуть их вверх дном. И тут в ней включилось сознание, это было похоже на апоплексический удар наизнанку, словно бы, повинуясь какой-то силе, в неработающем, заржавевшем водопроводе снова забулькала вода. Она смешалась, застеснялась, оглядела себя — ночнушка, туфли — и покраснела, словно её поймали с поличным на бытности человеком. — Барнум, я, кажется, заблудилась, — шепнула она. — Конечно заблудилась. На кладбище-то тебе ещё рановато, — ответил я. Она подошла ближе, она чуть не плакала. — Но я не сделала ничего страшного, — зарыдала она. — Нет, Эстер. Страшного мы не сделали ничего. — Потом я взял её за руку и отвёл в дом престарелых на Стургатен. Там царил полнейший переполох. Эстер пропала накануне вечером. Давно подключили полицию, а несколько сестёр прочёсывали окрестности Анкерторгет и берег реки. Её сразу взяли в оборот, а от меня потребовали отчёта, где я её нашёл и в каком она была состоянии. Я рассказал, что она пришла проведать свой киоск, в котором теперь я хозяйничаю, и что всё было без происшествий. Пока её мыли и приводили в порядок, меня оставили ждать в палате. Её соседка лежала в своей кровати, она была такая махонькая и сухонькая, что тени, можно сказать, не отбрасывала. Она повернулась под одеялом. — Эстер вернулась? — прошептала она. — Эстер здесь, — ответил я. И в её оловянных глазах крупными буквами написалось разочарование, как если б индеец из «Гнезда кукушки» передумал, влез назад в разбитое окно и попросил жвачки и электрошока. — Вот, вот, — только и ответила она и повернулась носом в бледно-зелёную стену. Две сестры привели Эстер и уложили её во вторую кровать. Времени стало двенадцать десять. Наверно, они её напичкали чем-то, потому что руки у неё сделались тяжёлые, как чугунки. Я присел к ней на минутку. Мне казалось, сознание в ней снова спуталось, но вдруг она заговорила и говорила утомлённо, но с ясностью, как бывает, когда, за секунду до погружения в сон, вас вдруг озарит отчётливое видение, полыхнёт, как костёр, и сделает тьму зримой. — Твой отец был нехороший человек, — сказала она. Я выпустил её руку. — Это что значит? — Но костёр уже прогорел, от него осталась лишь огромная тень во всё её лицо. — Хоть и были у него нейлоновые чулки, — шёпотом добавила Эстер и уснула. Это был последний раз, когда я слышал от неё разумные слова. — Спокойной ночи, Эстер, — простился я. Когда я снова очутился на Стургатен и ловил под дождём такси, потому что мне надо было всё-таки сдать свой товар в Национальный госпиталь, а до часа дня оставалось чуть больше десяти минут, кто-то неожиданно бибикнул мне несколько раз, и рядом со мной, обдав ботинки волной грязи, со скрежетом остановился битый-перебитый автомобиль. Это был незабвенный «воксхолл». Оскар Миил опустил стекло: — Подвезти, Барнум? — Я залез в машину. Папа Педера похлопал меня по плечу. — Куда тебе? — спросил он. — В Национальный госпиталь. Быстро! — Он перестал улыбаться: — Ты не болен, нет? — Должен отдать им кой-какой товарчик. — Оскар Миил рванул ручку передач, бухнул ногой по педалям, что-то взорвалось, и мы выпрыгнули на середину Стургатен. Я обеими руками сжимал контейнер, чтоб его не расплескало. Исправным оказался лишь один из дворников. По счастью, с его стороны, так что у него получилась щёлка в дождь. Мы свернули к кинотеатру «Центрум». — Посыльным работаешь? — Оскар Миил поглядел на меня, а мне было бы спокойнее, если б он смотрел на дорогу. — Посыльным? — Ты же должен доставить товар, так? — Я захохотал: — Пробу спермы, — объяснил я, — она у меня тут, во внутреннем кармане. — Оскар Миил приник к рулю: — Хорошо, что у вас с Вивиан сладилось так. — Спасибо на добром слове. Вышло так, как вышло. — И у вас наверняка родится чудесный малыш. — Он попробовал поднять стекло, но его заело. Мы ехали в «воксхолле», залитом дождём. — От Педера что-нибудь слышишь? — спросил Оскар Миил. — Нет, — ответил я, — а ты? — Он звонил несколько раз. Но всегда посреди ночи. — Больше Миил ничего не говорил до того момента, как машина с грохотом затормозила перед госпиталем. Было без пяти час. — Всё в порядке, пожалуй, — сказал он тогда. — С Педером? — Оскар Миил снова повернулся ко мне. — Со всеми нами, — сказал он. И показал на моё лицо: — Ты б уж и глаз заодно исправил. — В набрякшем веке засвербило. — А тебе б не мешало исправить окно, — ответил я. Он обнял меня и поцеловал. — С нами со всеми всё в полном порядке, — повторил он. — Это точно, — ответил я. — Всё тип-топ. — Не знаю, кто из нас кого успокаивал. Потом он расцепил объятия, я выбрался из машины, а Оскар Миил поехал в своём тесном «воксхолле» дальше, он гуднул три раза и скрылся за поворотом. Я всё продолжал махать, хотя не видел ничего, кроме дождя, заливавшего здоровый глаз. Потом я как-то вдруг вспомнил, что я здесь делаю. Я у цели. И я устремил шаги в глубь этого города усталости, болезни и скорби с его неустранимым запахом карболки и мыла. То и дело гудели сирены, разом исчезая вдали, разом приближаясь. Врачи перебегали из отделения в отделение под чёрными зонтиками. Это походило на печальный мюзикл. Я спросил у охранника дорогу. Он показал на подворотню, я вошёл в неё и на заднем дворе нашёл нужную лабораторию. На грузовом лифте спустился в подвал. Риска сбоку от двери остановилась напротив буквы «Н», не пошла дальше, её алфавит закончился этой буквой, но сам лифт опускался всё ниже, я уже сбился со счёта. К тому времени как он наконец приземлился, у меня заложило уши. Я распахнул дверцу и шатаясь выбрался в зелёный коридор. Худой мужчина в белом халате скрылся в кабинете. Я бросился вдогонку. На двери значилось «доктор Люнд». Я постучал. Жердь в белом, доктор Люнд, распахнул дверь. — Барнум Нильсен, — сказал я и протянул ему контейнер. Он посмотрел его на свет. — Ждите в коридоре, — велел он. Я нашёл свободный стул. Сел. Там уже сидели двое мужчин, пришедших раньше. На вид постарше меня, лет по сорок. Но тут мы все ровня. Без возраста, но с одной заботой. Мы быстро оценили друг дружку взглядом, украдкой, стыдясь, и тут же отвели взгляды прочь, на дырку в линолеуме, пустой крючок на стене, лампу дневного света, которая мигала-мигала да и потухла. Никто ничего не говорил. Что тут скажешь? Мы сдали на проверку своё семя. Где-то маялись ожиданием наши женщины. Они ждали ответа — может ли один из этих сперматозоидов слиться с их яйцеклеткой и начать неспешное развитие новой жизни? Другими словами, состоятельны ли мы как мужчины? Я задремал. Мне снилось, что я в лодке. Правлю к высокому изумрудному берегу. Вдруг перед носом зависает огромная чёрная птица, раскидывает крылья и застит солнце. Я поднимаюсь, вскидываю весло и бью по этой чёрной, гладкой птице. Но сам валюсь на дно. Сверху меня придавливает парус. Я начинаю шарить в поисках ножа, чтобы вырваться на воздух. — Можете заходить, — разбудила меня медсестра. Я очнулся и следом за ней вошёл в лабораторию. Остальных двоих уже не было. Доктор смотрел в микроскоп, стоя ко мне спиной. Комната оказалась белой. Вдоль по стенам — полки с колбами и стеклянными трубочками. Вдруг доктор как повернётся ко мне да как огорошит меня вопросом: — Барнум Нильсен, вы шофёр-дальнобойщик? — Я? Нет, у меня нет прав. — Вы часто носите тесные брюки? — Нет, я люблю широкие. — Братья-сёстры у вас есть? — Есть брат. Сводный. — Доктор поправил очки на востром носике и стал листать бумаги дальше. — Психические расстройства в семье наблюдались? — Не знаю, не замечал. — Не знаете? — Психов у нас в роду нет. — Гонорея была? — Что? — Сифилис. — Сифилис? Нет. — Вы ипохондрик? — Нет. — Истерик? — Да нет же! — сорвался я на крик — Часто выпиваете? — Я прислонился к стене, чтоб не упасть. Нет, только когда пью. — Это как часто? — По праздникам. — Не приучайте себя к дурным привычкам, Барнум Нильсен. — Не буду, доктор. — Он подступил ко мне ближе. — Помните: при алкоголизме человек утрачивает все душевные потребности, остаётся лишь беспрерывная болезненная тяга к спиртному, затем останки этой человеческой развалины слизывает смерть. Это вам ясно, Барнум Нильсен? — Да, — прошептал я. — Кем вы работаете? — Пишу. — Значит, вы сидите? — Сижу? — Пишете вы сидя? — Да, пишу я всегда сидя. — Доктор снял очки. То-то мы и видим. — Что мы видим? — опять прошептал я. — Взгляните. — И доктор Люнд показал на микроскоп. Я подошёл ближе и прильнул к окуляру здоровым глазом. Может, я даже вскрикнул, не знаю. Это была моя сперма, в тысячу раз увеличенная. Первой моей мыслью было — как мошка в кефире. Точно, точно, мошка в кефире. Утопла и лежит, не шевелится. Где-то далеко вдали слышался голос доктора. — Яички — драгоценный кладезь. Но ваши, Барнум, пусты. — Я выпрямился: — Ни единого шанса? — спросил я. Он покачал головой: — Можно нормально жить и не имея детей. Не позволяйте только цинизму овладеть вами. — Тут я увидел, что зовут-таки его не Люнд. На карточке с именем, прикреплённой к белому халату ржавой булавкой, значилось М. С. Греве. Директор Национального госпиталя. Он пожал мне руку, сестра выкинула контейнер в ведро для особых отходов. Я отыскал лифт. Он провёз меня сквозь толщу этажей. Я отпихнул дверцу и выскочил на тротуар. Облака плыли мимо крыш и шпилей церквей, унося дождь с собой, а небо было высоким и ясным, синий купол над городом. От света улицы переливались и искрились, как реки. Прохожие останавливались посреди переправы и задирали головы к солнцу, благодарно и недоверчиво. Я даже закрыл глаза руками, ослеплённый и нагой. Мне вспомнился давешний сон. Теперь я разгадал его смысл: баклан испражняется на скалы, чтобы отыскать дорогу домой. Я поднялся к Санктхансхаугену. Встал на перекрёстке. В кармане у меня лежали двести крон. Я раздумывал: цветы или пиво? Выпил пол-литра у Шрёдера, на остальное купил цветов, дюжину длиннющих роз. Потом пошёл домой к Вивиан. Она ждёт меня. Я вижу её нетерпение. У неё жар в глазах. Она вскакивает, не успеваю я ступить на порог. Прячу цветы под плащом. Она опережает мой рассказ словами: — Барнум, тебе письмо. — Она сжимает в руке конверт. Возможно, от Педера? Нет, тогда письмо было бы нам обоим. Значит, от Фреда. — От кого? — спрашиваю я. — От киностудии «Норскфильм», — отвечает Вивиан. — С чего вдруг они шлют мне письма? — Вивиан пожимает плечами, её нетерпение на пределе: — Ты не хочешь открыть? — Я беру конверт. В углу овальный логотип «Норскфильм», изображающий, по замыслу создателей, глаз из киноплёнки. Достаю письмо, читаю. Ничего не понимаю. Слова не складываются в смысл. Наверно, так ощущает свою дислексию Фред — буквы вдруг перестают работать. Я сую письмо Вивиан. — Прочти вслух, — шепчу я. Она читает: — Уважаемый Барнум Нильсен! Мы рады сообщить вам, что ваше произведение «Откормка» заняло первое место в конкурсе сценариев, организованном киностудией «Норскфильм». В своём заключении жюри особо отметило оригинальность замысла, упоение рассказчика материалом и особую манеру повествования, которую отличают в том числе прихотливые фантазии автора, кои кроме всего прочего прочитываются и как изображение извращённого, жирующего и склонного к насилию социума. Вручение наград состоится первого октября в тринадцать ноль-ноль на киностудии «Норскфильм» в Яре. Я едва в силах говорить: — Ты послала мой сценарий? — Она кивает — Ты не злишься? — Я смеюсь. — Какое там злиться! Я счастлив! — Вивиан подходит ближе: — Барнум, ты плачешь? — Я мотаю головой. Слёзы текут. Я не могу их удержать. Вивиан обнимает меня, а я реву. — Я так тобой горжусь! — говорит она. — Я тоже, — шепчу я. А Вивиан прижимается губами к моему уху: — Как сегодня всё прошло с моим мальчиком? — Я не хочу портить ей этот радостный день. И не стану перекрывать хорошую новость плохой. Мы балансируем, едва удерживаясь от падения. Сейчас нам главное не делать резких движений. — Отлично, — отвечаю я. — Отлично? — Всё в порядке. Товар принят. — Губы Вивиан тыкаются мне в лицо, они влажные. — Я так и поняла, когда увидела тебя с цветами! — Мы раскладываем кровать, срываем друг с друга одежду и отдаёмся любви со страстью, прежде нам недоступной, даже тогда во Фрогнерпарке. Мы забываем про всякое стеснение. Ставим всё на одну карту. Я боюсь, как бы я её не покалечил, но она хочет меня ещё и ещё. Это восторг и паника в одном, более высоком чувстве. А потом — тишина. Я беру письмо с киностудии и прочитываю его ещё раз, дабы убедиться, что это не сон. Нет, чистая правда. Я вижу это собственными глазами. Барнум Нильсен выиграл конкурс. Я ложусь рядом с Вивиан опять. — Что сказал доктор Люнд? — спрашивает она. — Что мои спермики стоят в очереди на свиданку с твоими яйцеклетками. — Вивиан делает вид, что сердится: — Отвечай по-человечески: что он сказал? — Он сказал, что яички — это драгоценный кладезь! — Я суетливо целую её в рот, квёлый, как медуза. Вивиан хохочет, она хватает меня за яйца, я постанываю. — Осталось в твоём драгоценном кладезе ещё немного драгоценностей? — шепчет Вивиан. — Пер Оскарссон может сыграть хозяина хутора. Или школьного врача. — У этого ребёнка всё будет хорошо, — говорит Вивиан. — А на маму подойдёт Ингрид Вардюнд, — отвечаю я. Вивиан проводит ладонью по пузу вниз. — У этого ребёнка всё будет хорошо, — повторяет она. — Конечно. — А не как у нас, — продолжает она. — Я приподнимаюсь на локте: — Что ты имеешь в виду? — Вивиан смотрит снизу вверх. — Лучше, чем у нас было. Лучше, Барнум, — шепчет она. Некоторое время я лежу молча. — У меня было замечательное детство, — говорю я. Вивиан улыбается. — А тебя кто будет играть? — спрашивает она. Я беру цветы, ставлю их в воду. Потом выхожу на лестницу выкинуть в мусоропровод намокшую бумагу. Заодно прихватываю медицинский справочник для норвежской семьи и выбрасываю его тоже. Последняя статья в справочнике — Устрицы при разведении в грязной непроточной воде могут становиться ядовитыми. Вернувшись, я застаю краткий миг, когда солнце напоследок, прежде чем скрыться между деревьев за синими овальными облаками, наполняет комнату тёплым красноватым сиянием, словно розы полиняли на пол и потолок. Вивиан лежит, задрав ноги на стену, чтобы мои соки быстрее утекли в неё. Я присаживаюсь на краешек кровати. Кладу букет на подушку. Она берёт меня за руку. И пока комната погружается в темноту, я успеваю подумать: до чего же силён аромат этих роз, одной капли из одного лепестка довольно, чтобы целое море пропахло неуловимым розовым маслом.