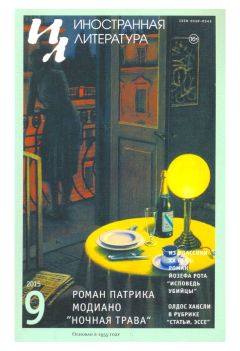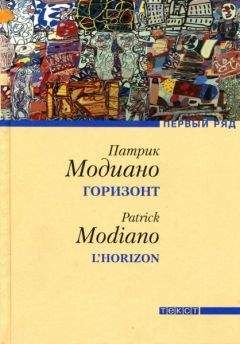Ночная трава - Модиано Патрик
Мари Бризар и Роже
Холмы Жиронды
Добрые алжирские вина
Погреба Луары
Либо, Маржеран и Блонд
Монастырский дворик. Плодовые настойки. Подвалы Розария
— Вы часто это делаете? — спросил меня Агхамури.
В голосе слышалась досада, будто он боялся, что все, что он решился доверить мне, не слишком меня занимает, и у меня есть занятия поважнее. Но я ничего не мог с собой поделать — в то время я был настолько же, как и сейчас, чувствителен ко всему, что хрупко и скоро исчезнет: и к вещам, и к людям. Мы подошли к большому современному зданию: внутри, в вестибюле, горел свет, а над крыльцом виднелась надпись: «Факультет естественных наук».
Мы прошли вестибюль насквозь, вышли с другой стороны и, миновав еще один пустырь, оказались на улице Жюсьё.
— Пришли, — сказал Агхамури.
Он указал на кафе на другой стороне улицы, сразу за театром «Лютеция». На тротуаре толпились люди в ожидании спектакля.
Мы сели в углу, рядом со стойкой. Напротив нас, в другом конце зала, несколько посетителей ужинали за столиками, выстроенными в ряд.
Теперь была моя очередь начинать разговор. Иначе он бы скоро пожалел, что и так сказал мне слишком много.
— Вы только что упоминали нечто серьезное, касающееся Данни… Я бы очень просил вас объясниться.
Секунду он помедлил.
— У нее могут возникнуть очень серьезные проблемы с правоохранительными органами…
Он подыскивал точные слова, профессиональные, слова адвоката или полицейского.
— На данный момент она относительно в безопасности… Но может всплыть, что она замешана в грязную историю…
— Что вы имеете в виду под «грязной историей»?
— Об этом спрашивайте ее саму.
Возникло молчание. Даже какая-то неловкость. Я слышал, как рядом, в театре, дали третий звонок. Господи, как хотел я в тот вечер быть в зале вместе с ней, среди других зрителей, и чтобы она не была замешана ни в какие истории… Я не мог понять, почему Агхамури не договаривает, в чем заключалась та «грязная история».
— Мне кажется, вы в довольно близких отношениях с Данни… — сказал я.
Он посмотрел на меня, немного смутившись.
— Я видел вас как-то поздней ночью в «66».
Похоже, он не понял, что за «66». Тогда я уточнил, что говорю о кафе, вверх по бульвару Сен-Мишель, недалеко от Люксембургского вокзала.
— Да, может быть… Мы часто ходили туда, когда еще жили в студенческом городке.
Он улыбнулся, как бы желая увести разговор на более безопасную почву, но я, напротив, хотел вернуть его к основной теме. В конце концов, это он меня позвал. При мне было его письмо, в конверте с моим именем и адресом — ул. Од, 28. Я положил его между страницами черного блокнота. Я сохранил его там и перечел сегодня снова, прежде чем переписать, слово в слово, на лист писчей бумаги «Клерфонтен», на которой я пишу уже несколько дней.
— И вам не кажется, что стоит предупредить вашу жену о том, что Данни пользуется документами на ее имя?..
Я почувствовал, что он «раскололся» — еще никогда это жаргонное слово не казалось мне таким точным. Когда я вспоминаю сегодня тот миг, мне кажется даже, будто я вижу сеть мелких трещин на его лице. Он был так взволнован, что мне захотелось его успокоить. Нет, все это было решительно неважно.
— Если бы вы могли забрать у нее ту карту резидента, на имя моей жены, это бы мне сильно помогло…
Он знал прекрасно, что я не из шпаны. В конце концов, те два или три раза, когда мы встречались после его занятий у корпуса Санзье, мы говорили о литературе. У него были довольно глубокие познания о Бодлере, он даже попросил почитать ему мои заметки о Жанне Дюваль.
— Ей она в любом случае уже не нужна — ведь они сделали фальшивые документы… Только не говорите ей, что я вам об этом сказал…
Он был до того взволнован, что я решил оказать ему эту услугу, слабо представляя еще, каким образом. Копаться у нее в сумочке мне было как-то совестно. Раньше, когда я ходил с ней на почту, она показывала служащему в окошке какой-то документ. Была ли это карта резидента? На чье имя? На имя Мишель Агхамури? Или на то имя, что значилось в фальшивых бумагах, которые сделала ей эта банда из отеля «Юник»? И кто из них оказал ей такую услугу? Поль Шастанье, Дювельц, Жерар Марсиано? Я скорее думал на Жоржа, самого старшего из всех, человека с лунным лицом и «холодными флюидами», которого я опасался и о котором Поль Шастанье сказал, когда я спросил про него: «Знаете, вот уж кто точно не пай-мальчик…»
— Если не ошибаюсь, у вас с женой квартира недалеко от Дома радио?..
Я думал, что вопрос покажется ему слишком нескромным. Но нет. Он улыбнулся и, похоже, почувствовал облегчение, оттого что я перевел наш разговор на эту тему.
— Да, совсем небольшая квартирка… Я бы с удовольствием пригласил вас в гости, познакомиться с моей женой… но с тем условием, что вы забудете, что я часто вижусь с Данни и с остальными и что бываю в отеле «Юник», на то время, пока мы будем там…
Он произнес слово «там», точно имя далекой земли, укрытой от всех опасностей.
— В сущности, достаточно перейти Сену, чтобы забыть обо всем, что оставил на том берегу.
— Вы правда так думаете?
Я видел, что он ищет поддержки. Полагаю, он испытывал ко мне некое доверие… Всякий раз, когда мы сидели вдвоем или когда шли от площади Монж до Монпарнаса, мы говорили о литературе. С теми другими, из отеля «Юник», он явно не мог поговорить на эти темы. Слабо представляю, чтобы Поля Шастанье, или Дювельца, или Жоржа интересовала судьба Жанны Дюваль. Быть может, Марсиано? Однажды он сказал мне по секрету, что хотел заняться живописью и знает один «бар художников» на улице Деламбр: «Розовый бутон». Много лет спустя в папке, которую передал мне Ланглэ, я обнаружил ориентировку на Марсиано, с двумя антропометрическими снимками, в профиль и в фас, — «Розовый бутон» был упомянут там в списке мест, которые он часто посещал.
Агхамури поднял на меня взгляд.
— Я, увы, не верю, что достаточно перейти Сену…
Он снова улыбнулся той робкой улыбкой, готовой погаснуть через секунду.
— Да и не только Данни… Я тоже, Жан, угодил в ту еще переделку…
Он в первый раз назвал меня по имени, и я был тронут. Я не говорил ни слова, чтобы дать ему выговориться. Я боялся, что любое мое замечание сведет на нет его откровенность.
— Я боюсь возвращаться в Марокко… Там все будет в точности как в Париже… Однажды ступив в трясину, уже не вытащишь ногу…
О какой трясине он говорит? Тихо, почти шепотом и как только мог мягко, я все же задал вопрос, наудачу:
— Когда вы жили в студенческом городке, вы не чувствовали себя в безопасности?
Он нахмурил брови, как прилежный студент, решающий задачу, — наверняка он сидел так на занятиях в Санзье, стараясь убедить самого себя, что он всего-навсего обычный студент.
— Знаете, Жан, там была очень странная атмосфера, в марокканском корпусе… Постоянно полицейские проверки… За жильцами старались вести наблюдение, по политическим мотивам. Некоторые студенты были настроены оппозиционно к марокканскому правительству… и власти Марокко просили Францию установить за ними слежку… Вот так…
Судя по всему, он почувствовал облегчение, рассказав мне все это. Даже как будто переводил дух. Вот так. После такого вступления ему, конечно, будет легче перейти к главному.
— Если вкратце, мое положение было, так сказать, довольно щекотливым… Я оказался меж двух огней… Я виделся одновременно и с теми, и с другими… Можно было подумать, что я веду двойную игру… Но все гораздо сложнее… В сущности, двойной игры не бывает…
Он наверняка был прав — так убежденно и веско произнес он эти слова. Любопытно, что последняя фраза прочно запомнилась мне. И еще многие годы, когда я гулял, в основном по ночам, в отдельных уголках Парижа, — один раз это было прямо у Дома радио, — мне порой слышался далекий голос Агхамури: «В сущности, двойной игры не бывает».