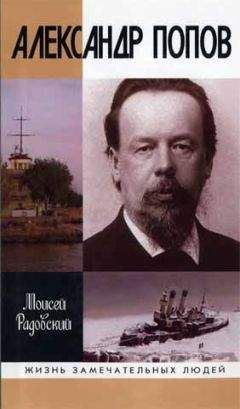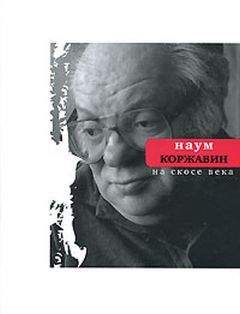День независимости - Форд Ричард
Милый проказник, и, что мне особенно по душе, он встает на мою сторону именно тогда (или почти тогда), когда я сильнее всего в этом нуждаюсь.
Пол обращает ко мне лицо умирающего с приоткрытым от ужаса ртом, в безмолвном, страдальческом изумлении прижимает ладони к щекам. Никто из сидящих в столовой на него больше не сморит, все уткнули, точно арестанты, носы в тарелки. Он издает парочку ииик, таких звучных, словно они исходят из пустого колодца, и произносит:
– Он же Сибелиус.
– А это что значит? – Готовый уйти, я отрываю мой портплед от пола.
– Окончание хорошего анекдота. Правда, сам анекдот я придумать не смог. С тех пор как у мамы появился любовник, она мне мышьяк в еду подсыпает. А это снижает мой коэффициент умственного развития.
– Попробую с ней поговорить, – обещаю я, и мы уходим, и никто не замечает, как мы вступаем в сияние жаркого утра, направляясь к «Залу славы».
Церковные колокола уже звонят и бьют по всему городку, сзывая прихожан на утренние службы. Приодевшиеся, бледнолицые семейные группки из трех, четырех и даже шести человек шествуют по двое в ряд по каждому уличному тротуару, направляясь кто во Вторую Методистскую, кто в Конгрегационалистскую, кто в Христову Епископальную, а кто в Первую Пресвитерианскую. Другие, не столь нарядные – мужчины в чистых, но неглаженых рабочих штанах цвета хаки, женщины в красных платьях, но без чулок и шарфиков, – выбираются из машин, чтобы заскочить в церковь Девы Марии Озерной ради краткой, бездыханной встречи с благодатью, прежде чем для них начнется отсчет урочного времени, рабочий день официантки или какая-то встреча, назначенная в другом городке.
Мы же с Полом, проникшись пилигримским чувством бренности всего сущего, совершаем вместе с другими не желающими ни перед кем преклоняться, неблагочестивыми, вооружившимися фотокамерами отцами и сыновьями, отцами и дочерьми в летних одеждах, наш уверенный, но неотделимый от туманного смутного смущения (как будто нам есть чего стыдиться) путь в «Зал славы». Наши машины, а то и придуманные еще в Беспечных девяностых [101] трамвайчики развозят «группы сеньоров» и к другим достопримечательностям городка – к «Дому Фенимора» и «Музею фермеров», где выставлены вещи тех времен, когда мир был поприятнее, чем ныне. К тому же все магазины открыты, мороженое продается, воздух наполнен музыкой, озеро – водой, и нет у гостей городка такого желания, которого кто-нибудь уже не учел бы, хотя бы отчасти.
Мы укладываем наши вещички в стоящую за «харчевней» машину, пешком спускаемся к причалу для яхт и занимаем кабинку в маленькой голубой закусочной с несоразмерно большими окнами, носящей название «У кромки воды», – подобно «студии» Чарли, она нависает над водой, но только на обмазанных креозотом сваях. Внутри, однако же, холодно до того, что сыр коченеет, а омлет по-денверски отдает влажным нутром старого холодильника, и я, несмотря на прекрасный озерный пейзаж, начинаю думать, что умнее было бы дождаться уже оплаченного завтрака в «Зверобое».
Пол, пока мы добирались сюда по коротким приозерным улочкам, где стоят уютные пристанища «синих воротничков», пришел в благодушнейшее за всю нашу поездку настроение, а когда мы уселись в красной кабинке, разразился обширным рассуждением о том, на что была бы похожа его жизнь в Куперстауне.
Начиная расправляться с бельгийскими вафлями, политыми консервированными взбитыми сливками и осыпанными замороженной клубникой, он заявляет, что, если бы мы переехали сюда, он определенно занялся бы доставкой газет. В Дип-Ривере, говорит он, этой индустрией правят «итальянские замарашки», готовые надрать задницу любому белому мальчишке, который попробует в нее сунуться. Он говорит также, и без всякого сарказма, что чувствовал бы себя обязанным раз в неделю посещать «Зал славы» и таким образом выучил бы его наизусть («А чего же ради здесь еще жить?»), «каждое воскресное утро набожно завтракал», вот как сейчас, здесь, в «У кромки воды», узнал бы все возможное о «Гиганте из Кардиффа» (еще одна здешняя достопримечательность) и «Музее фермеров», может быть, даже поработал бы там экскурсоводом и, пожалуй, ездил бы на бейсбольные и футбольные матчи. И пока я ковыряюсь в моей быстро остывающей «Закуске бейсболиста», время от времени поглядывая на стаю уток, которые клянчат попкорн у забредших на лодочный причал туристов, Пол потрясает меня сообщением, что решил, вернувшись домой, прочитать всего Эмерсона, поскольку получит, скорее всего, испытательный срок и времени для чтения у него появится больше. Он размазывает быстро обращающиеся в жидкость взбитые сливки по вафле, старательно покрывая ими каждый ее квадратик, и объясняет мне – голова опущена, наушники так и висят на шее, – что, пребывая «на грани дислексии» (новость для меня), он замечает намного больше, чем другие люди его возрастной группы, а из-за неспособности быстро «обрабатывать» информацию имеет больше возможностей пристально рассматривать «определенные темы» (которые, случается, страшно его расстраивают), вот почему он читает трудоемкий «Нью-Йоркер», «уворовывая его из груды дерьма, которую выписывает Чак», и вот почему полагает, что мне следует бросить риелторский бизнес – «недостаточно интересный», – уехать из Нью-Джерси – причина та же, – может быть, «в городок вроде этого» и заняться, скажем, ремонтом мебели или барменством, – в общем, найти себе практическое, связанное с жизнью и не требующее большого напряжения дело, «а то и к сочинению рассказов вернуться». (Он всегда с уважением относился к тому, что я был недолгое время писателем, и даже держит в своей комнате подписанный мной экземпляр «Синей осени».)
Нужно ли говорить, что мое сердце так и рвется ему навстречу. Под его взбаламученным обличием кроется желание, чтобы все и везде получали только самое лучшее, в том числе и магазинные охранники. Куперстаун еще до того, как Пол переступил порог магического «Зала славы», одержал над ним магическую победу, показав ему непринужденную идиллию заурядной жизни первого парня на селе, которую Полу страшно захотелось опробовать. (Похоже, все его плохо сочетающиеся круги замедлили вращение и счастливым образом согласовались.) Впрочем, я поневоле гадаю, не окажутся ли эти краткие мгновения, взлет воображения, создавший набросок его личного царства, счастливейшими в жизни Пола и, оглядываясь на них, не будет ли он видеть неясное, лишенное подробностей свечение. Собственно говоря, они могут стать для него причиной тревог и деформаций посильнее, поскольку ему никогда не удастся снова вообразить именно такую идиллию, как не удастся и забыть о ней, перестать думать о том, куда она подевалась. Вот таких же опасливых взглядов я придерживался, когда он был маленьким и разговаривал с несуществующими людьми, – взглядов, которые, полагал я, смогут его защитить. Мне следовало бы понимать, однако ж, как я понимаю теперь, что с любыми детьми, даже и с теми, что постарше, все обстоит одинаково: ничто не остается прежним в течение долгого времени, и, повторюсь, ложного чувства благополучия попросту не существует.
Надо бы поднять к глазам «Олимпус» и запечатлеть Пола в эту его официально признанную счастливой минуту. Однако я боюсь разрушить чары, его обаявшие, ведь очень скоро он снова вглядится в жизнь и решит, подобно всем нам, что бывал и счастливее, да только не может припомнить, как именно.
– Но послушай, – говорю я, продолжая разделять с ним эти чары, глядя на макушку его пострадавшей головы, – Пол тем временем изучает вафлю, мысли его кренятся и скачут, челюстные мышцы мягко пошевеливаются, изыскивая место, в которое стоит вонзить зубы. (Как я люблю эту белобрысую, нежную голову.) – Мне очень нравится торговля недвижимостью. В ней присутствуют и дальновидность, и консервативность. А сочетание их всегда было моим идеалом.
Он не смотрит на меня. Старый повар – костлявые руки, футболка в пятнах, грязная матросская шапочка – плотоядно взирает на нас из-за вереницы пустых табуретов у стойки бара, из-за солонок и перечниц. Он ощутил некие контры между мной и Полом – по поводу развода, перехода из одной частной школы в другую, плохой успеваемости, наркоты – любой причины, по каким обычно препираются у него на слуху заезжающие сюда отцы и сыновья (как правило, о карьере, избранной отцом к середине жизни, речи у них не идет). Я посылаю ему грозный взгляд, он покачивает головой, свешивает из выпяченных губ повлажневшую сигарету и отворачивается к своему грилю.