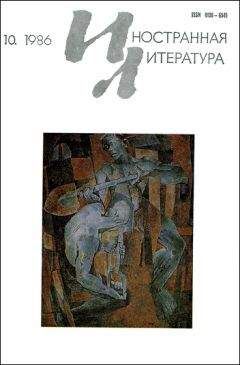Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
МАЛЬЧИК. Папа!
Мужчина на миг поворачивается лицом к причалу. Поднимает руку, улыбается, но медленно мотает головой. Мальчик стоит задрав руку. Теперь он роняет её вниз. И кричит в последний раз. Беззвучно. На его глазах парусник уходит назад в туман. Лицо мальчика крупным планом. Веки изнутри, тонкая, почти прозрачная кожа, кровеносные сосуды, резкий надвигающийся свет.
Я подбираю листы, вычёркиваю в описании обеих сцен слово coн, потом поступаю так же на экране. Разве фильм сам по себе не один большой сон? Можно ли выделить во сне сон, в волне каплю, в урагане ветер? Эту мысль я стираю тоже. Если паче чаяния найдётся один такой продюсер, что соблаговолит прочитать сценарий, начинающийся сновидением, значит, денег снять кино у него точно нет, а если и есть, то их не хватает заплатить автору, тем более он не склонен это делать, но зато рад пригласить тебя в бар внизу, а после пяти бокалов, за которые ты и расплачиваешься из своего кармана, он предлагает тебе сварганить лучше другую историю, да в пожарном порядке, пока идею не успели украсть, какую идею, спрашиваешь ты устало, ты утомлён, но происходящее ещё забавляет тебя, и он приникает к твоему уху и шепчет похабщину, смысла в которой меньше, чем в надписях в женской уборной, но ты киваешь, а он тычет тебе в ухо языком, наполняя мозг слюнями и дурным запахом изо рта. Звонит телефон. Я не беру трубку. А беру и ухожу гулять и оставляю компьютер включённым, мне боязно выключить его, как ребёнку — свет. На улице зима, начало февраля. Я тоже белый и пушистый. И поутру зачёркиваю в календаре ещё один день своей длящейся уже давно чистоты, так узник отсчитывает дни до освобождения или повешенья. Святость самообольщения. И гуляю я не из кафе в кафе, а обхожу букинистические лавки, начинаю с самых дорогих, в центре, где за стёклами запертых шкафов аккуратными рядами стоят первые издания и собрания сочинений в кожаных переплётах, где запрещено курить, а сумки надо сдавать на входе, libri rare, а заканчиваю проспиртованными комиссионками, где не принимают кредитные карточки, в навозных кучах трэша в мягких обложках, и вот в таком букинисте, в «Вольват Антиквариат», приютившемся в одном из бараков на Сёккедалсвейен, я и обнаруживаю свою жемчужину в тот момент, когда хозяин, утомлённый моим часовым уже блужданием вдоль полок, спрашивает устало и нелюбезно, что именно я ищу. — Идеи, которые можно украсть так, что никто не заметит, — говорю я. — Украсть? Здесь не воруют. Прошу вас, уходите, — суровеет он. — Я плачу сполна за всё, что заимствую, — отвечаю я и на этих словах замечаю в разделе «редкостей» рукопись, двести пожелтевших машинописных страниц в папке, на которую наклеена бирка вроде тех, какими в прежние времена помечали банки с вареньем. Бисерными красными буковками на бирке написано сценарий, авг. Прошло двадцать восемь лет, но картинки мгновенно всплывают в памяти и складываются в формулу, которая мне ясна, но непонятна: ножницы плюс мускус равны голоду. От эпизода, который не попал в смонтированную ленту моей жизни, идёт головокружительное амбре. Линейка Барнума вспыхивает как спичка. Это тот самый сценарий, который я однажды спас, не дав ему развеяться по ветру. Я выгребаю хозяину всю наличность и не чуя под собой ног спешу домой или в то помещение, которое я называю домом — комнату с балконом на Бултелёккен, где мы с Вивиан начинали совместную жизнь. Бегом взлетаю по ступенькам, запираю дверь. Переодеваюсь. Выхожу на балкон — красное солнце хиреет над фьордом, морозный туман переползает через город, как передвижная гора. Устраиваюсь за столом. И открываю рукопись. Рабочий сценарий Хеннинга Ларсена по роману Кнута Гамсуна «Голод» в сценарном переложении Петера Сееберга. На следующей странице перечислены все действующие лица, от Понтуса до брандмейстера, ниже которого в два столбца — все статисты: велосипедист, трубочист, полный господин, шесть двойников, всего пятьдесят с лишком. Что удивительно, я едва могу вспомнить их в фильме. Вивиан могла быть маленькой девочкой (с репликой). А мы с Педером — детьми в Ватерланд. Нет, наверно, двое из нас были влюблённой парой. Я раскуриваю сигарету. Сцен на улице вдвое больше, чем сцен в помещении. УЛИЦА ИЛАЯЛИ. На ней мы и стояли. Искусство найти правильное место — половина дела. От балкона сквозит. Я закрываю дверь. За чахлыми деревьями мелькает катафалк, наверняка пустой, думаю я, рабочее время уже вышло, погосты закрыты. Но в голове всё плывёт, я вцепляюсь в стол, стою, держусь. Кредо сценариста звучит так: нервы, связывающие мозг с глазами, в двадцать три раза действеннее тех, что связывают мозг с ушами. Эрго: описывай картины, а не звуки. Я сажусь в высокое кресло, начинаю читать, и меня осеняет. Главный герой здесь — камера. Передо мной тривиальный любовный треугольник с вершинами Понтус, город и камера. Весь сыр-бор из-за неё, неотступной, угрожающей. Она должна бы открывать собой список ролей. — Глаз Божий! — внезапно вскрикиваю я. — Чёрт возьми, это же глаз Бога! — Но тут же зажимаю себе рот. Несостоявшийся статист-анахорет с мыслями не по ранжиру. Стоит Господу смежить глаза, и нас нет. Я выдёргиваю телефон из розетки и с головой ухожу в новую забаву. Вношу в сценарий исправления и дополнения. Возвращаю нас в фильм. Мы бежим через Дворцовый парк, камера едет по пятам. Я нахожу тот лист, что принёс тогда режиссёру, незамысловатую сцену, подвигшую меня стать сценаристом. Моё решение надуло одним порывом ветра. ПОНТУС видит маленькую собачонку, она бежит домой по мостовой вдоль тротуара, в зубах мясная нога. Почтальон раскладывает почту, слышу я. Уже наступило утро. Ночь опять прошла без сна. Снег лежит на балконе как толстое одеяло. Я перечёркиваю в ежедневнике ещё один день чистоты, а потом спускаюсь вниз за почтой. Мне два письма. Толстый конверт от Педера, это билеты Форнебю, Осло — Темпельхоф, Берлин. Самолёт вечером. Педер улетел заранее, чтобы условиться о встречах. Бронь номера в «Кемпински» тоже приложена. Три ночи в «Кемпински» обошлись в копеечку, потянули примерно на четыре опциона на сценарий плюс одна субсидия на проработку идеи. Но Педер говорит, что всё окупится сторицей. «Кемпински» это синоним контракта. Если у тебя здесь достойный номер, а в отельном баре карточка постояльца, остальное образуется само по себе как по мановению. Не выветривается из Педера оптимизм. Он верит в то, что сумеет сбросить вес, и в меня. Я вскрываю второй конверт. В нём лежит пуговица. И всё. Пуговицу я узнаю с первого взгляда. Её прятала в своей шкатулке Пра. Я холодею. Беру пуговицу в руки. Она почти ничего не весит. К ней прилагается записочка. Буквы полулежат, всего два слова: Пуговица отца. Я пристально разглядываю конверт. Пустой, ни моего имени, ни адреса. Видимо, он сам опустил его в ящик. Нет-нет. Это невозможно. Это не может быть правдой. Я подхожу к окну. Снег лежит на балконе как толстое одеяло. Красная птица взлетает с балкона. Я рывком задёргиваю занавески. Линейка Барнума полыхает, да толку чуть. Девяносто процентов знаний мы получаем глазами, пять — ушами, а остальное приходится на боль и запахи. Я комкаю бумажку, сую её в рот и жую. Жую долго, а потом глотаю. Пуговицу вышвыриваю в унитаз и спускаю воду. Одним легчайшим, как крыло бабочки, прикосновением я мог бы удалить всё с экрана, очистить его до блестящего гладкого безмолвия, уничтожить себя. Вместо этого я иду на кухоньку, взбираюсь на табуретку, открываю щиток воздуховода, запускаю внутрь руку и нащупываю то, что сам же и спрятал там от себя, завязавшего самообольстителя, да недостаточно, видно, надёжно спрятал — бутылку беленькой. Сок есть в холодильнике.
ОТКОРМКА
Сценарий Барнума Нильсена
1. Вечер. Кинозал
Мальчик, БАРНУМ, сидит в зале кинотеатра. Ему двенадцать лет. Но он недоросток, ему ничего не видно. Дама с высокой причёской заслоняет обзор. Он пересаживается и оказывается позади мужчины в шляпе. Он меняет место ещё раз. Без толку. Все выше его. Он тянет шею, наклоняется в одну сторону, в другую. Он едва видит экран.
Рекламная заставка. Рекламируется кока-кола, «Аякс», молочный шоколад. В конце концов Барнум забирается с ногами на сиденье, чтобы видеть. Публика потешается над ним. Разгневанный билетёр с проклятиями пробирается между рядов и вытаскивает его из зала. Публика смеётся и хлопает.