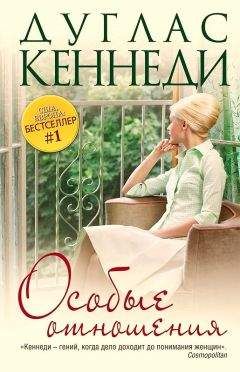Невинный, или Особые отношения - Макьюэн Иэн Расселл
– Знаешь, какой курс в моем университете был самый лучший? Биология. Мы изучали эволюцию. И я понял одну важную вещь. – Теперь он включил в свое поле зрения и Леонарда. – Это помогло мне выбрать профессию. Потому что тысячи, нет, миллионы лет у нас уже были здоровенные мозги, неокортекс, так? Но мы не говорили друг с другом и жили как последние свиньи. Ничего не было. Ни языка, ни культуры, ничего. А потом вдруг бац! И все есть. Вдруг оказалось, что без этого уже никуда, обратной дороги нет. Так почему это вдруг произошло?
Рассел пожал плечами.
– Благодаря Господу Богу?
– Черта с два! Я скажу вам почему. Раньше мы все целыми днями болтались вместе, делали одно и то же. Жили кучами. Язык был ни к чему. Если появлялся леопард, не было никакого смысла спрашивать: «Эй, ребята, кто это там идет по тропинке?» Леопард! Все его видели, все начинали скакать и орать, чтобы отпугнуть его. Но что происходит, когда кто-нибудь на минутку уединяется по своим личным делам? Когда он видит леопарда, он знает что-то, чего другие не знают. И знает, что они этого не знают. У него есть то, чего нет у других, у него есть секрет, и это начало его индивидуальности, его сознания. Если он хочет поделиться своим секретом и побежать к остальной компании, чтобы предупредить их, у него возникает нужда в языке. Это создает базу для появления культуры. Но он может и промолчать в надежде, что леопард слопает вождя, который давно мешал ему жить. Тайный план, который требует еще более развитой индивидуальности, большего сознания.
Оркестр заиграл быструю громкую пьесу. Глассу пришлось прокричать свой вывод: «Секретность сделала нас людьми!», и Рассел поднял стакан с пивом, приветствуя это заключение.
Официант истолковал его жест по-своему и очутился рядом, так что заказали еще по кружке, а когда блестящая русалка под восторженные крики появилась перед оркестром, около их стола что-то внезапно прошуршало, из трубы вылетел пенальчик, уткнулся в латунный ограничитель и замер. Они безмолвно уставились на него.
Потом Гласе взял его и отвинтил крышку. Вынув сложенный листок бумаги, он расправил его на столе.
– Ого! – крикнул он. – Да это вам, Леонард!
На один смятенный миг ему почудилось, что это от матери. Ему должно было прийти письмо из Англии. Но сейчас уже поздно, подумал он, и вдобавок никто не знает, куда он отправился.
Все трое склонились над запиской. Их головы заслоняли свет. Рассел стал читать вслух. «An den jungen Mann mit der Blume im Haar». Юноше с цветком в волосах. «Mein Schoner, я наблюдала за тобой из-за своего столика. Было бы славно, если бы ты подошел и пригласил меня на танец. Но если не можешь, просто улыбнись мне – я буду счастлива. Извини, что помешала, всего наилучшего, столик 89».
Американцы вскочили на ноги, высматривая столик, но Леонард все еще сидел, не выпуская листка из рук. Он снова перечел немецкие слова. Это послание не было для него сюрпризом. Теперь, оказавшись в его руках, оно скорее подталкивало его к узнаванию, к принятию неизбежного. Конечно, так это и должно было начаться. Если он хотел быть честным с самим собой, ему оставалось только признать, что в глубине души он всегда ждал этого.
Его подняли на ноги. Развернули и подтолкнули в направлении другого конца зала. «Глядите, вон она». Поверх голов, сквозь плывущие вверх клубы сигаретного дыма, подсвеченные огнями эстрады, он различил одинокую женщину. Гласе с Расселом разыгрывали шутливую пантомиму, смахивая пыль с его пиджака, поправляя ему галстук, получше укрепляя цветок у него за ухом. Потом они оттолкнули его, как лодку от причала. «Ну! – сказали они. – Вперед!»
Он медленно дрейфовал к ней, и она следила за его приближением. Она оперлась локтем на столик, а подбородок положила на ладонь. Русалка пела: не сиди под яблонькой ни с кем, только со мной, ни с кем, только со мной. Он подумал – как потом оказалось, правильно, – что его жизнь сейчас изменится. В десяти футах от нее он улыбнулся. Он подошел, как раз когда оркестр кончил играть. Он стоял слегка покачиваясь, держась за спинку стула, выжидая, пока утихнут аплодисменты, и когда они стихли, Мария Экдорф сказала на безупречном английском, ее едва заметный акцент лишь ласкал слух: «Потанцуем?» Леонард извиняющимся жестом дотронулся до своего живота. Там смешались три абсолютно разных напитка.
– Простите, это ничего, если я сяду? – сказал он. И он сел, и они сразу же взялись за руки, и прошло много минут, прежде чем он смог вымолвить очередное слово.
5
Ее звали Мария Луиза Экдорф, ей было тридцать лет, и она жила в Кройцберге, на Адальбертштрассе – в двадцати минутах езды от дома Леонарда. Она работала машинисткой и переводчицей в маленькой автомастерской британской армии, в Шпандау. Был муж по имени Отто, который неожиданно появлялся два-три раза в год и требовал денег, иногда пуская в ход кулаки. Квартира у нее была двухкомнатная, с крошечной кухонькой за занавеской, и добираться туда надо было по темной деревянной лестнице в пять пролетов. На каждой площадке из-за дверей слышались голоса. В водопроводе не было горячей воды, а холодный кран зимой не разрешалось закрывать до конца, чтобы не замерзли трубы. Английскому она научилась от бабки, которая до и после Великой войны работала в Швейцарии, учительницей-немкой в школе для английских девочек. Семья Марии переехала в Берлин из Дюссельдорфа в 1937-м, когда ей было двенадцать. Отец был местным представителем компании, производившей коробки передач для грузовиков. Теперь ее родители жили в Панкове, в русском секторе. Отец служил кондуктором на железной дороге, мать тоже нашла себе работу: паковала на фабрике электрические лампочки. Они до сих пор не простили дочери, что в двадцать лет она вышла замуж против их воли, и не нашли утешения даже в том, что оправдались худшие их предсказания.
Иметь в своем распоряжении целую двухкомнатную квартиру было для одинокой бездетной женщины почти роскошью. Жилья в Берлине не хватало. Соседи с ее площадки и с той, что была под ней, держались отчужденно, но те, кто жил ниже и знал о Марии меньше, были по крайней мере вежливы. Она дружила кое с кем из молодых работниц мастерских. В день знакомства с Леонардом ее сопровождала некая Дженни Шнайдер, весь вечер протанцевавшая с сержантом французской армии. Кроме того, Мария состояла в клубе велосипедистов, пятидесятилетний казначей которого был безнадежно влюблен в нее. В прошлом апреле кто-то украл из подвала их дома ее велосипед. Она мечтала довести свой английский до совершенства и когда-нибудь поступить переводчицей на дипломатическую службу.
Часть этого Леонард узнал, когда передвинул свой стул так, чтобы ему не было видно Гласса и Рассела, и заказал Марии «пимс» (Алкогольный напиток из джина, разбавленного особой смесью.) с лимонадом, а себе еще пива. Остальное выяснялось постепенно и с большими трудами в течение многих недель.
Наутро после посещения «Рези» он был у ворот Альтглинике в восемь тридцать, за полчаса до срока, – последнюю милю он прошел от поселка Рудов пешком. Его поташнивало, он устал, хотел пить и еще не до конца протрезвел. Проснувшись сегодня, он обнаружил на столике рядом с кроватью клочок картона, оторванный от сигаретной пачки. Мария написала на нем свой адрес, и теперь он лежал у него в кармане. Ручку она попросила у приятеля Дженни, французского сержанта, а писала, положив картонку Дженни на спину, покуда Гласе и Рассел ждали в машине. В руке Леонард держал пропуск на радиолокационную станцию. Часовой взял его и пристально поглядел ему в лицо.
Подойдя к комнате, которую он теперь считал своей, Леонард обнаружил, что ее дверь открыта, а внутри собирают инструменты трое мужчин. По-видимому, они проработали здесь всю ночь. Ящики с магнитофонами были сложены посередине. Все стены занимали закрепленные на болтах полки, достаточно глубокие, чтобы разместить на них вынутые из ящиков приборы. До верхних полок можно было добраться с помощью маленькой библиотечной стремянки. В потолке проделали круглую дырку для вентиляционного воздуховода; к отверстию была только что привинчена железная решетка. Где-то над потолком уже гудел вытяжной вентилятор. Отступив в сторону, чтобы дать рабочему вынести лесенку, Леонард заметил на своем рабочем столе дюжину коробок с электрическими вилками и новые инструменты. Он рассматривал их, когда рядом появился Гласе с охотничьим ножом в зеленом холщовом чехле. Его борода сверкала на электрическом свету.