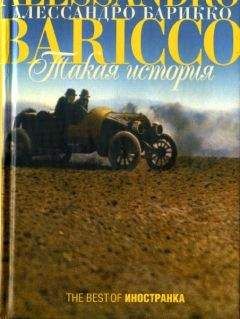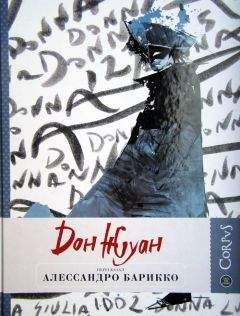Море-океан - Барикко Алессандро
Он знал, что Адамса искорежила собственная жизнь. Лангле представлял себе его душу как тихое селение, варварски разграбленное и раздробленное на головокружительное число образов, ощущений, запахов, звуков, мук, слов.
Смерть, которую он изображал всем своим видом, была непредвиденным результатом взорвавшейся жизни. Под его немотой и оцепенением гудел безудержный хаос.
Лангле не был врачевателем и никогда никого не исцелял. Однако он по своему опыту знал о нечаянной целебной силе точности. Да и сам он, можно сказать, уберегался исключительно с помощью точности. Растворенное в каждом глотке его жизни, это снадобье отгоняло ядовитую растерянность. Лангле пришел к выводу, что неприступная отрешенность Адамса исчезнет сама собой, если он повседневно будет заниматься кропотливым и точным делом. Он чувствовал, что это должна быть своего рода любимая точность, лишь отчасти тронутая холодностью заведенного ритуала и взращенная в тепле поэзии. Он долго искал ее в устоявшемся вокруг мире вещей и жестов. И наконец нашел.
Тем же, кто не без ехидства отваживался спросить его.
— И какая, с позволения сказать, панацея вернет к жизни вашего дикаря? он с готовностью отвечал.
— Мои розы.
Как ребенок бережно подберет птенца, выпавшего из гнезда, и уложит его в уютное самодельное ложе, так и Лангле приютил Адамса в своем саду.
Достойном восхищения саду, изящные очертания которого оберегали от вспышки многоцветие его красок, а железная дисциплина строгой симметрии упорядочивала буйное многообразие собранных по всему миру цветов и растений.
Саду, где сумбур жизни становился божественно правильной фигурой.
Именно здесь Адамс понемногу пришел в себя. Несколько месяцев он хранил молчание, смиренно отдаваясь постижению сотен — точных — правил. Затем его отсутствие, пронизанное стихийным упрямством затаившегося в нем зверя, стало перерастать в размытое присутствие, прореженное тут и там вкраплением коротких фраз. Спустя год никто при взгляде на Адамса не усомнился бы, что перед ним самый настоящий садовник, каким он и должен быть: молчаливый и невозмутимый, медлительный и аккуратный, непроницаемый, не молодой и не старый. Милостивый Творец мироздания в миниатюре.
За все это время Лангле ни разу ни о чем его не спрашивал. Лишь изредка он заводил с Адамсом досужие разговоры, в основном по поводу самочувствия ирисов или непредсказуемости погоды. И тот и другой избегали намеков на прошлое, любое прошлое. Лангле выжидал. Спешить ему было некуда. Он даже упивался своим ожиданием. Он настолько вошел во вкус, что, прогуливаясь однажды по длинной парковой аллее и повстречав на ней Адамса, едва ли не разочаровался, когда тот поднял голову от дымчатой петунии и отчетливо произнес, как будто ни к кому не обращаясь:
— В Тимбукту нет стен, ибо жители города твердо знают: одной его красоты достаточно, чтобы остановить любого врага.
Адамс умолк и склонился над дымчатой петунией. Лангле зашагал по аллее, не проронив ни слова. Сам Вседержитель, будь он сущим, ничего бы не заметил.
С того дня из Адамса заструились все его истории. В разное время и при самых непредвиденных обстоятельствах. Лангле только слушал. Не задавая вопросов. Слушал. Иногда это были нехитрые фразы. Иногда целые повести.
Адамс говорил тихим, проникновенным голосом. Он на удивление умело перемежал рассказ молчанием. В монотонном, как псалмопение, собрании фантастических образов было что-то завораживающее. Волшебное. И Лангле поддался этим чарам.
Ни один из услышанных им рассказов не попадал в его темнокожаные фолианты. На сей раз Королевство было ни при чем. Эти истории принадлежали ему. Он предвкушал, когда они созреют в лоне поруганной, мертвой земли. И теперь пожинал плоды. Такой изысканный подарок он решил преподнести собственному одиночеству. Он воображал, как встретит старость в преданной тени этих историй. И умрет, запечатлев в глазах образ, недоступный другому белому человеку, — образ красивейшего из садов Тимбукту.
Отныне, думал он, все будет таким пленительно простым и легким. И не мог предугадать, что вскоре с человеком по имени Адамс его свяжет нечто поразительно жестокое.
Однажды — к тому времени Адамс уже появился в адмиральском дворце — Лангле угодил в неприятную, хотя и банальную историю: ему пришлось сыграть партию в шахматы на собственную жизнь. В отъезжем поле на адмирала и его немногочисленную свиту напал разбойник, печально известный в тамошних краях шальным нравом и лихими делами. Однако тут злодей не стал свирепствовать.
Взяв в плен одного Лангле, он отпустил остальных с условием, что получит за пленника несметный выкуп. Лангле знал: его богатств достаточно, чтобы вернуть свободу. Он сомневался лишь в том, хватит ли у атамана терпения дождаться выкупа. Впервые в жизни адмирал почувствовал тяжкий дух смерти.
Лангле завязали глаза, заковали в цепи и два дня возили в каком-то фургоне. На третий день его высадили. Когда с адмирала сняли повязку, он оказался перед самим атаманом. Они сидели за небольшим столиком. На столике — шахматная доска. Атаман был краток. Он предоставил адмиралу шанс. Партию в шахматы. Выигрыш означал для Лангле свободу. Поражение — смерть.
Лангле призвал атамана рассуждать здраво. За мертвого адмирала он не получит ни гроша — так стоит ли отказываться от целого состояния?
— Я не спрашивал, что вы об этом думаете. Я спросил, согласны вы или нет. Решайтесь.
Шальная голова. Сумасброд. Лангле понимал, что выбора у него нет.
— Будь по-вашему, — согласился он и устремил взгляд на доску. Вскоре он убедился, что сумасбродство атамана было к тому же сумасбродством зловредным. Разбойник не только взял себе белые фигуры — наивно было бы предположить обратное, — но и преспокойно заменил своего белопольного слона на второго ферзя. Большой оригинал.
— Король, — пояснил лиходей, ткнув пальцем в самого себя, — и две королевы, — добавил он со смешком, указывая на двух женщин, и вправду красавиц, сидевших по бокам от него. Атаманская шутка вызвала дикий хохот и громкие возгласы одобрения. Лангле, которому было не до веселья, опустил глаза, подумав, что нелепой смерти ему уже не миновать.
С первым ходом атамана наступила гробовая тишина.
Королевская пешка рванулась вперед на две клетки. Слово за Лангле. Он медлил, точно чего-то ждал. Пока сам не понимая чего. И понял лишь тогда, когда в самом отдаленном закоулке его головы прозвучал ясный и на редкость спокойный голос: «Конем на линию королевского слона».
Теперь Лангле не озирался по сторонам. Он знал этот голос. И то, что он исходит не отсюда, а издалека. Одному Богу известно как. Лангле взялся за коня и поместил его перед пешкой по линии королевского слона.
На шестом ходу он уже выигрывал фигуру. На восьмом — рокировался. На одиннадцатом — полновластно господствовал в центре доски. Через два хода Лангле пожертвовал слона и следующим ходом взял первого неприятельского ферзя. Второго он подловил в результате хитроумной комбинации, которую — и это было ему совершенно ясно — он никогда бы не разыграл без тонких подсказок странного голоса. По мере того как трещала по швам оборона белых, в атамане вскипала ярость и усиливалась звериная растерянность. В какой-то момент Лангле почудилось, что партия выиграна. Но голос не давал ему покоя.
На двадцать третьем ходу атаман зевнул ладью. Зевок походил скорее на капитуляцию. Лангле собрался было воспользоваться этой оплошностью, но голос вовремя его упредил: «Остерегайтесь короля, адмирал».
Короля? Лангле замешкался. Белый король был в абсолютно безобидной позиции, заслоненный остатками наспех сделанной рокировки. Так чего же остерегаться? Лангле смотрел на доску и недоумевал.
Остерегаться короля.
Голос онемел.
Все вокруг онемело.
На несколько мгновений.
И тут Лангле пронзила догадка. Будто вспышка молнии озарила она его сознание за миг до того, как атаман извлек откуда-то кинжал и направил лезвие в сердце адмирала. Лангле оказался проворнее. Он перехватил смертоносную руку, вырвал из нее кинжал и, завершая не им начатый выпад, полоснул атамана по горлу. Разбойник грянулся оземь. Перепуганные гетеры бросились кто куда. Остальные от неожиданности окаменели. Лангле проявил невиданное хладнокровие. Жестом, который впоследствии он не колеблясь назовет бесполезно-торжественным, Лангле приподнял белого короля и уложил его на доску. Затем встал и с кинжалом в руке попятился к выходу. Никто не шевельнулся. Адмирал вскочил на первого попавшегося коня, окинул напоследок взглядом жутковатую сцену народного театра и умчался прочь. Как это часто бывает в переломные моменты жизни, Лангле поймал себя на том, что в его голове вертится только одна, совершенно вздорная мысль: он впервые — впервые — выиграл партию в шахматы, играя черными.