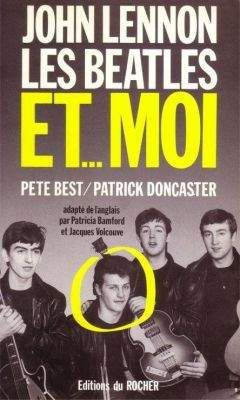Чак Паланик - Удушие
Трусцой бегу рядом с ним, перебрасывая резиновую кукольную голову из руки в руку.
– Братан, – зову. – Поворачивай.
Дэнни отвечает:
– Сначала глянем на восьмисотый квартал.
А там что?
– По идее там ничего, – говорит Дэнни. – Когда-то он принадлежал моему дяде Дону.
Дома заканчиваются, и восьмисотый квартал – просто участок, а дальше, в следующем квартале – снова дома. Вся земля – лишь высокая трава, растущая по краю, и старые яблони со сморщенной и перекрученной во тьме корой. Окружённый охапкой щёток из хлыстов ежевики и щетины из кучи колючек на каждой ветке – центр участка пуст.
На углу стоит плакат – крашенная в белый фанера с нарисованными сверху красными кирпичными домиками: они притиснуты друг к другу, а из окон с вазонами машут люди. Под домами чёрная надпись сообщает: “Скоро – городские дома Меннингтаун-Кантри”. Под плакатом земля усыпана снегом из кусочков отслоившейся белой краски. Вблизи видно, что щит покоробился, кирпичные дома потрескались и выцвели до розового.
Дэнни вываливает булыжник из коляски, и тот приземляется в высокую траву около тротуара. Вытряхивает розовое одеяло и вручает мне два угла. Мы складываем его между собой, а Дэнни рассказывает:
– Если и есть что-то противоположное образцу для подражания – так это мой дядя Дон.
Потом Дэнни закидывает сложенное одеяло в коляску и берётся толкать ту домой.
А я зову его вслед:
– Братан. Тебе что – не нужен камень?
А Дэнни продолжает:
– Всякие там матери против вождения в нетрезвом виде, сто пудов, закатили вечеринку, когда выяснили, что старый Дон Меннинг помер.
Ветер поднимает и клонит к земле высокую траву. Здесь не живёт никто, кроме растений, и сквозь тёмный центр квартала можно разглядеть свет фонарей на крыльце других домов. Очертания старых яблонь чёрными загзагами проступают между ними.
– Так что, – спрашиваю. – Это парк?
А Дэнни отвечает:
– Не совсем, – удаляясь всё дальше, сообщает. – Это моё.
Швыряю ему кукольную голову и говорю:
– Серьёзно?
– С тех пор, как пару дней назад позвонили предки, – отзывается он, ловит голову и кидает её в коляску. Мы шествуем в свете фонарей, мимо тёмных домов всех остальных.
Поблёскивают застёжки моих ботинок, руки мои засунуты в карманы, я спрашиваю:
– Братан? – говорю. – Ты же серьёзно не считаешь, что во мне есть хоть что-то от Иисуса Христа, правда?
Прошу:
– Пожалуйста, скажи что нет.
Мы идём.
А Дэнни, толкая пустую коляску, отвечает:
– Смотри сам, братан. Ты почти занимался сексом на столе Господа. Ты же просто выдающийся образец позорного падения.
Мы идём, пиво выветривается, и ночной воздух на удивление прохладен.
И я прошу:
– Пожалуйста, братан. Скажи мне правду.
Во мне ничего хорошего, доброго, заботливого, – вообще ничего из такой параши.
Я не более, чем безмозглый, тупорылый, невезучий пижон. Вот с этим я могу жить. Вот это я и есть. Просто дыро-трахающий, щеле-дрючащий, поршне-пялящий сраный беспомощный сексоман, и мне никогда, ни за что нельзя забывать об этом.
Прошу:
– Скажи мне ещё раз, что я бесчувственный мудак.
Глава 27
Сегодняшний вечер должен пройти таким образом: я прячусь в шкафу в спальне, пока девчонка принимает душ. Потом она выйдет оттуда, вся блестящая от пота: воздух дышит паром, туманится от лака для волос и духов, – она выходит, одетая в один только кружевной купальный халат. И тут я выпрыгиваю в каких-нибудь колготках, натянутых на лицо, и в чёрных очках. Швыряю её на кровать. Приставляю ей к горлу нож. Потом насилую.
Вот так всё просто. Позорное падение продолжается.
Главное – не забывай себя спрашивать: “Как бы НЕ поступил Иисус?”
Только вот на кровати её насиловать нельзя, говорит она, – покрывало из светло-розового шёлка и пойдёт пятнами. И не на полу, потому что ковёр поцарапает ей кожу. Мы условились: на полу, но на полотенце. Не на хорошем гостевом полотенце, предупредила она. Сказала, что оставит паршивенькое полотенце на комоде, а мне надо расстелить его заранее, чтобы не нарушать атмосферу.
Она оставит окно спальни открытым, прежде чем пойти в душ.
И вот я прячусь в этом шкафу, голый и облипший всеми её вещами в целлофане из химчистки, на моей голове колготки, я в солнечных очках и держу самый тупой нож, который смог найти, – сижу в ожидании. Полотенце расстелено на полу. В колготках так душно, что по моему лицу течёт пот. Волосы, прилипшие к голове, начинают чесаться.
Только не возле окна, сказала она мне. И не возле камина. Сказала изнасиловать её около шкафа, но не слишком близко. Попросила постараться расстелить полотенце на проходе, где ковёр не так сильно заносится.
Эту девушку по имени Гвен я встретил в отделе “Реабилитация” книжного магазина. Трудно сказать, кто кого подцепил, – но она притворялась, будто читает двадцатишаговую книжку по сексуальной зависимости, а на мне были приносящие удачу камуфляжные штаны, и я ходил вокруг неё кругами с экземпляром той же самой книги, и вот открыл ещё один агрессивный способ знакомиться.
Так делают птички. Так делают пчёлки.
Мне нужен этот приток эндорфинов. Чтобы транквилизировал меня. Я жажду пептида фенилэтиламина. Вот такой я и есть. Зависимый. В смысле, все у себя отметили?
В забегаловке при книжном магазинчике, Гвен просила достать верёвку, только не из нейлона, потому что это слишком больно. А от пеньки у неё будет раздражение. Годится такое, вроде чёрной изоленты, только не для её рта и бумажной, а не резиновой.
– Отдирать резиновую изоленту, – сказала она. – Так же эротично, как восковая эпиляция ног.
Мы сравнили наши расписания – а четверг уже выпадал. В пятницу у меня была постоянная встреча сексоголиков. На эту неделю мне девчонок не положено. Субботу я провожу в Сент-Энтони. Почти каждый воскресный вечер она помогает проводить игру в бинго в своей церкви, поэтому мы условились на понедельник. В понедельник, в девять, – не в восемь, потому что она работает допоздна, и не в десять, потому что на следующий день мне с раннего утра на работу.
И вот, наступил понедельник. Изолента наготове. Полотенце расстелено, – а когда прыгаю на неё с ножом, она спрашивает:
– На тебе что – мои колготки?
Заламываю ей одну руку за спину и прижимаю ледяное лезвие к её глотке.
– Нет, ну вы посмотрите, – возмущается она. – Это уже переходит всякие границы. Я разрешала себя изнасиловать. Я не разрешала портить мои колготки.
Рукой с ножом хватаю за кружевной отворот её халата и пытаюсь стащить тот у неё с плеча.
– Стой, стой, стой, – упирается она, отталкивая мою руку. – Так, дай я сама. Ты же всё порвёшь, – она выкручивается из моих рук.
Спрашиваю – можно мне снять солнечные очки?
– Нет, – отвечает она, выскальзывая из халата. Потом отправляется к распахнутому шкафу и вешает халат на тремпель.
Но я ведь еле вижу.
– Не будь таким эгоистом, – говорит она. Теперь уже голой, берёт мою руку и сжимает её на своём запястье. Потом заворачивает свою руку за спину, повернувшись и прижавшись ко мне своим голым задом. Поршень у меня встаёт выше и выше, и её тёплая гладкая щель задницы влажно меня трёт, – а она объявляет:
– Хочу, чтобы ты был нападающим без лица.
Объясняю ей, что стыдно покупать пару колготок. Парень, который покупает колготки – либо бандит, либо извращенец; и в том и в другом случае кассир вряд ли примет у тебя деньги.
– Боже, да хватит ныть, – говорит она. – Каждый насильник, который у меня был, приносил колготки с собой.
Плюс, сообщаю ей, когда смотришь на вешалку с колготками, там есть какие угодно размеры и цвета. Телесный, серо-угольный, бежевый, коричневый, чёрный, синий, – и не одна пара не приводится как “размер под голову”.
Она отдёргивает в сторону лицо и стонет:
– Можно тебе кое-что сказать? Можно тебе сказать только одну вещь?
Говорю – “Чего?”
А она в ответ:
– У тебя изо рта очень воняет.
Тогда, в забегаловке при книжном магазинчике, пока мы ещё составляли сценарий, она заявила:
– Обязательно подержи заранее нож в холодильнике. Мне нужно, чтобы он был очень и очень холодный.
Я спросил – может нам сойдёт резиновый нож?
А она ответила:
– Нож – это очень важная для моего общего впечатления часть.
Сказала:
– Лучше всего будет, если ты приставишь лезвие к моему горлу прежде, чем оно остынет до комнатной температуры.
Предупредила:
– Но будь осторожен, потому что если ты случайно меня порежешь, – она наклонилась навстречу через столик, выпятив подбородок на меня. – Даже, если поцарапаешь меня – клянусь, я отправлю тебя за решётку прежде, чем успеешь нацепить штаны.
Отхлебнула свой травяной чай, поставила чашечку обратно на блюдце и продолжила:
– Мои ноздри будут очень признательны, если на тебе не будет никакого одеколона, лосьона или дезодоранта с сильным запахом, потому что я очень чувствительна.