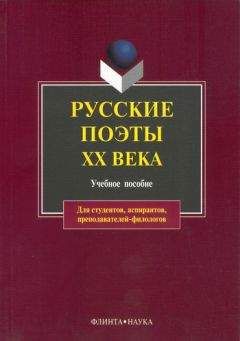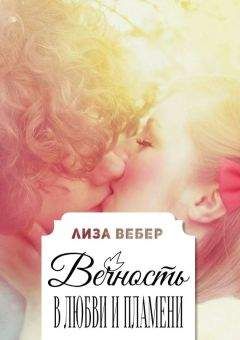Грант Матевосян - Мать едет женить сына
— Ну-ну-ну-ну, совесть поимей! На работу! — совсем рядом раздался голос Смбата, председателем тогда Смбат был. — Время полдень уже, а вы по домам отсиживаетесь, ай-яй-яй-яй…
— Иду, иду, — ответил голос Парандзем, — уже выходила, вот прямо сейчас выходила…
Смбат стоял на холме Мураденц и смотрел по сторонам, и они долго-долго пробыли так в зарослях лоби, потому что находились прямо против холма Мураденц, и, если бы пошевелились, Смбат непременно бы увидел их, как на ладошке увидел бы. С лёгким постаныванием грядка лоби всасывала воду, картофель зацветал под солнцем, мелкие яблоки пребывали молча среди листвы; ласточка лепила гнездо под карнизом Симонова дома, ласточка щебетала и парила, иногда пролетала совсем низко, почти касалась их, потом разом взмывала, резко ломала полёт; постепенно темнел от скользящих облаков лес, потом медленно от них высвобождался, светлел, прямо-таки улыбался, как ребёнок, в лазури плавал ястреб, и стоило жить очень долго в этом зелёном мире и даже умереть стоило и быть захороненным среди этого зелёного покоя.
— Ну ладно, жарко, задохнулась совсем…
— Не поспеешь за Парандзем уже всё равно.
— Плевать.
Сона согнала курицу с гнезда, принесла яйца, разожгла огонь, достала масла из кувшина и похвалила Агун за то, что на улице июнь, а у Агун ещё прошлогоднее масло сохранилось. Слабую, нежную яичницу приготовила и хлеб подогрела. В погребе вдруг мёд в бутылке нашла, принесла, закрепила яичницу — полила мёдом. И села перед Симоном и на две капельки поплакала:
— Жены твоей боюсь.
— Бока у тебя потолще, чем у неё, чего бояться.
— Муж-то ты её… а я, как собака по чужим дворам, виноватая…
— Ну так и не делала бы такого худа, не была бы виноватая…
— А что твоя жена каждый день делает это, ничего это, по справедливости?
Она сказала, что ещё до войны доски для пола нарублены были, до сих пор на крыше сарая лежат, а в доме земляной пол, и что тут особенного — всего на две недели работы, если по утрам и вечерам работать. И сказанное ею тяжестью легло на сердце Симона. Что же это, весь мир, значит, на расчёте держится? Время и без того летнее, рабочее, ночи короткие, а ты тесаком всю ночь теши-стучи?! А стук тот, чтоб ещё в горы до Агун дошёл, а Агун тут же и прикинь, и рассчитай, и счёт предъяви, а ты битый час толкуй ей — так и так, мол, Арто не восемьсот должен был заплатить, а шестьсот, Мушег, в свою очередь, тысячу сто. Хорошо ещё, Агун в математике слаба, не очень кумекает, а то он вон с каких времён ещё должен был Матевосу из Дсеха пятьсот рублей, только удалось — взял у Арто, переправил в Дсех с одним дсехцем, имени не знает.
— Нет, Сона, ничего не выйдет.
— А я возьму и позову Симона-маленького.
— Мне что. Зови.
Вечером Симон шёл на село. Сона с шумом выволакивала и сбрасывала с крыши сарая доски и громко так спросила, когда он поравнялся с домом:
— Ну как, мастер, завтра начинаешь работу?
С поля возвращались косари. «Или она окончательно шлюха?» — подумал Симон. На ближнем огороде трудилось семейство Ато.
— Начинаю, да! Хочешь, хоть с сегодняшней ночи и начну, — ехидно и с иным смыслом сказал Симон.
— Время летнее, когда же ещё, как не ночью.
Симон присел у дороги, подождал, пока пройдёт бригада косарей, чтобы как следует проучить эту шлюху. А Сона стояла, уперев руки в бока, и тихонечко посмеивалась исподтишка. Но когда Симон пошёл к ней, она опустила руки, и, когда он совсем вплотную подошёл, она смотрела на него на манер обиженной девочки. Она оставила Симона стоять на дороге, сама пошла, встала в дверях, Симон подошёл к дверям, она вошла в дом. Вошла в дом и пустила слезу, заплакала как актриса: «Виновата я, если муж твоей жены вернулся с войны, а мой нет?» И вообще так получилось: Симон на село не пошёл больше, Симон оттащил доски к дому и сколотил козлы, а потом обстругал, обтесал половину досок, а в полночь пошёл заночевать в доме. Утром на столе жареный цыплёнок был, Симон поел и пошёл на работу. К вечеру начался дождь, да так и не перестал. Весь вымокший, с ноющими ногами, Симон шёл домой. Сона отвела его к себе, раздела донага, так голого и уложила в постель, потому что мужской смены белья большого размера в доме не было. Его уложила, а сама выстирала, высушила и выгладила Симонову одежду. Дождь лил три дня, и хоть это и было плохо для пчелы, да и для урожая, но, вообще-то, было хорошо, потому что Симон одним только был занят. Дождь с маху шлёпался о лес, в овраге слышался шум большой воды, весь мир был каким-то глухим и мягким. Симон под сухим навесом строгал, резал, размечал доски. А Сона садилась на низкий стульчик и иногда смеялась, чаще плакала, потому что погода такая на душу давила, но ещё больше потому, что, если бы не война, был бы у Соны свой собственный муж. В эти дни два раза было на обед мясо: один раз меньшой Соны привёз из Цатера — брат сестре гостинец прислал, — и ещё когда красный бык в распутицу поскользнулся и упал с камня-известняка. Когда дожди кончились, приехал из училища средний сын Соны, и было стыдно, потому что ему уже лет шестнадцать, а может, и все семнадцать было, и вроде бы он всё понял. И наверное, потому он через два дня уехал обратно, будто бы к друзьям в город. На самом же деле в Кировакане у него девушка была, к ней поехал. А там родители девушки и женили его на своей дочери, одну из своих комнат молодым выделили и на работу зятя быстренько определили. А младший Соны, который отца в глаза не видел — в люльке был, когда того в армию взяли, — этот, как щеночек, ластился к Симону, целый день за ним тенью ходил. Симон с Соной говорили, что у ребёнка к ремеслу любовь, но не любовь к ремеслу была — тоска по отцу, он и сейчас, когда приезжает из Грозного, спрашивает, случается, простодушно у Симона: «Как живёшь, отец? А помнишь, как ты нам полы настилал… Моя бедная мать ещё жива была… Помнишь, отец?» В эти дни, когда пол ещё не весь был застлан, принесли весть с гор, что Агун разругалась с пастухами, крыла их самыми непотребными словами, и причиной тому был нервный пёс Симона, который не пришёлся по вкусу пастухам, и те натравили на несчастного псину все тридцать волкодавов фермы. А также рассуждение поступило насчёт того, что лучше будет ему, Симону, не появляться больше в собственном доме. И вообще правильно поступили братья Егор и Амаяк, вышвырнув после войны своих жён и приведя в дом по новой, слава богу, не так уж трудно вырастить безотцовщину — вон, пожалуйста, Грачик, сын Егора от брошенной жены Сируш, обтёсывает камень туф в Кировакане, а после работы надевает белую рубашку и чёрные блестящие туфли. И вообще счастье человека в покое и мире, в уважении и любви друг к другу, чего никогда не было в их семье, в этой ихней дыре под скалою, пропади она пропадом.
Ребята вроде учуяли что-то. В поле Егор, смеясь, сказал:
— Эй, Симон, с чего бы это похорошёл ты у нас, может, в санатории какой побывал?
Симон смутился, но тоже посмеялся и ответил как подобало:
— А ты как думал?
Женщины, те быстро сообразили. Сварливая Шушан шла по дороге с родника, увидела мужчин, остановилась.
— Чьё сердце горит?! — крикнула она, и всегда стеснительная Маро откликнулась:
— У влюблённых сердце горит!
И сварливая, горластая Шушан с кружкой в руках приблизилась к Симону, подала ему воды и прямо подыхала со смеху, так смеялась.
— Ну что, что пасть разинула! — разозлился Симон, а она продолжала смеяться, остановиться не могла.
Потом на женщин охота петь напала, они возвращались с поля и пели:
Такой ночью, лунной ночью
Любовь сладка и ласка сладка…
Они садились передохнуть и пели:
Такой ночью, лунной ночью
Любовь сладка и ласка сладка…
Они поднимались не спеша, останавливались и пели:
Такой ночью, лунной ночью…
И винить их нельзя было, потому что все они были безмужние и одинокие женщины: муж Шушан — Андрэ — погиб в Праге, мароевский Ашот сбежал с призывного пункта, его поймали и расстреляли в манацовском овраге в 1942-м, но большей частью мужчины пропали в войну без вести, и женщины представляли: может, сейчас в далёкой стране Америке, нацепив галстук, они тоскуют по своим оставленным в деревне Цмакут жёнам… Да. Но Симон-то знал, что все без вести пропавшие из их деревни дрались и убиты, наверное, где-нибудь возле Керчи… Когда убирали картофель, Агун вознамерилась отколошматить Сону, но сварливая Шушан с заступом наготове поспешила той на помощь:
— Ты, ахчи… когда наши против Гитлера пошли, не для нас одних погибли, и что ваши вернулись живые-невредимые, тоже не для вас одних вернулись, знаешь — нет?! — И как ни крути тут, как ни прикидывай, а была права она.
Агун подала жалобу в сельсовет и в то же время притихла. Покрепче утвердилась в этой ихней дыре под скалою, будь она неладна, проклятая. Агун в ней укрепилась, чтобы потом насесть с новой силой, зло и исступленно: