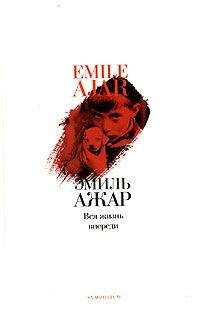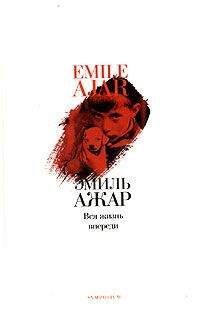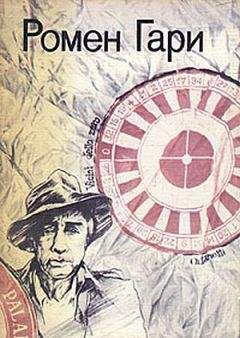Ромен Гари - Жизнь впереди
– Все в порядке, мосье Хамиль?
– Здравствуй, малыш Виктор, я рад тебя слышать.
– Скоро изобретут очки для любых глаз, мосье Хамиль, и вы снова сможете видеть.
– Надо веровать в Господа.
– Еще немного, и появятся потрясающие очки, каких еще никогда не бывало, и действительно можно будет видеть все, мосье Хамиль.
– Что ж, малыш Виктор, хвала Господу, ведь это он позволил мне дожить до таких лет.
– Мосье Хамиль, меня зовут не Виктор. Меня зовут Мухаммед. Виктор – это другой ваш приятель.
Он удивился.
– Ну конечно же, малыш Мухаммед… Тава кальтпу’ала алъ Хайи элладри ла ямут… Веру свою вселил я в Живущего, что неподвластен смерти… Как я назвал тебя, малыш Виктор?
Вот же чертовщина.
– Вы назвали меня Виктором.
– Как я мог? Ты уж меня прости.
– Ерунда, одно имя стоит другого, какая разница. Как ваши дела со вчерашнего дня?
Он крепко задумался. Я видел, что он вовсю старается вспомнить, но все его дни стали похожи друг на друга как капли воды, с тех пор как он перестал проводить свою жизнь с утра до вечера в торговле коврами, и оттого в голове у него пробел налезал на пробел. Правую руку он держал на маленькой затрепанной Книге, которую написал когда-то Виктор Гюго, и Книга, должно быть, очень привыкла чувствовать эту руку, которая на нее опиралась, как это часто бывает со слепыми, когда им помогают перейти на ту сторону.
– Говоришь, со вчерашнего дня?
– Со вчерашнего или сегодняшнего – это неважно, мосье Хамиль. Просто время проходит.
– Что ж, весь сегодняшний день я провел здесь, малыш Виктор…
Я посмотрел на Книгу, но сказать было нечего: уже многие годы они были вместе.
– Когда-нибудь я тоже напишу настоящую книгу, мосье Хамиль. Внутри у нее будет обо всем. Какая книга у него самая лучшая, у этого мосье Виктора Гюго?
Мосье Хамиль глядел далеко-далеко и улыбался. Его рука с дрожащими пальцами шевелилась на Книге, словно ласкала ее.
– Не задавай мне слишком много вопросов, малыш…
– Мухаммед.
– …не задавай мне слишком много вопросов, я сегодня немного устал.
Я взял Книгу, и мосье Хамиль почувствовал это и забеспокоился.
Я посмотрел название и вернул ему. Я положил его руку сверху.
– Вот, мосье Хамиль, она здесь, вы можете ее потрогать…
Я видел, как его пальцы ощупывают Книгу.
– Ты не такой ребенок, как другие, малыш Виктор. Я всегда это знал.
– Когда-нибудь я тоже напишу отверженных, мосье Хамиль. Тут найдется кому проводить вас к себе?
– Инш’алла. Обязательно найдется, ибо я верую в Господа, малыш Виктор.
Мне это уже начало слегка надоедать, потому что его хватало только на того, другого.
– Расскажите мне что-нибудь, мосье Хамиль. Расскажите, как вы совершили большое путешествие в Ниццу, когда вам было пятнадцать лет.
Он помолчал.
– Я? Я совершил большое путешествие в Ниццу?
– Когда вы были молодым.
– Не помню. Совсем не помню.
– Ну ладно, я сам вам расскажу. Ницца – это оазис на берегу моря с мимозовыми лесами и пальмами, и там русские и английские принцы сражаются цветами. Там клоуны пляшут на улицах и конфетти сыплются с неба на всех и на каждого. Когда-нибудь я тоже поеду в Ниццу, когда стану молодым.
– Как это, когда станешь молодым? Разве ты стар? Сколько тебе лет, малыш? Ты ведь малыш Мухаммед, разве не так?
– А-а, об этом никто ничего не знает, и о моем возрасте тоже. Я живу без дня рождения. Мадам Роза говорит, что у меня никогда не будет настоящего возраста, потому что я особенный и всегда буду особенным. Вы помните мадам Розу? Она скоро умрет.
Но тут мосье Хамиль совсем заблудился внутри самого себя, потому что жизнь заставляет людей жить и жить, но не очень-то задумывается над тем, что с ними при этом случается. В доме напротив жила одна дама, мадам Халауи, которая приходила за ним перед закрытием и укладывала в постель, потому что у нее тоже никого не было. Понятия не имею, знали ли они друг дружку или это просто чтобы не пропадать в одиночестве. У нее была витрина с земляными орехами на бульваре Барбэса, а еще – отец, пока не умер. Тогда я сказал:
– Мосье Хамиль, мосье Хамиль! – просто так, чтобы напомнить ему, что есть человек, который его любит и знает его имя, и что оно у него еще есть.
Я побыл с ним еще, давая пройти времени – не тутошнему, французскому, а которое идет медленно.
Мосье Хамиль часто говорил мне, что медленное время приходит из пустыни со своими караванами верблюдов и не торопится, потому что везет на себе вечность. Но все-таки куда веселей слышать, как тебе про это рассказывают, чем видеть это на лице старика, который каждый день позволяет еще немного себя обокрасть, и если вы хотите знать мое мнение, то вообще-то времени самое место среди ворья. Хозяин кафе, которого вы наверняка знаете, потому что это мосье Дрисс, пришел на нас взглянуть. Мосье Хамилю время от времени нужно было по-маленькому, и тогда его следовало отвести в уборную, пока не поздно. Но не думайте, будто мосье Хамиль уже не отвечал за свои действия и ничего не стоил. Старики имеют такую же ценность, как и все прочие, даже если ссыхаются. Они чувствуют так же, как и мы с вами, а иногда это даже причиняет им еще большие страдания, чем нам, потому что они уже не могут себя защитить. Но на них набрасывается природа, которая бывает порядочной скотиной и заставляет их подыхать как на медленном огне. А у нас еще поганей, чем в природе, потому что запрещено избавляться от стариков, которых постепенно душит природа, и глаза у них при этом вылазят из орбит. Правда, у мосье Хамиля случай был не тот, он мог стареть еще долго и помереть, может, в сто десять лет, и даже стать чемпионом мира. Он еще полностью отвечал за свои действия и говорил «пи-пи» когда нужно и раньше, чем это произойдет, и мосье Дрисс брал его под руку и лично сопровождал в уборную. У арабов, когда человек очень стар и скоро избавится от жизни, ему оказывают уважение, потому что на том свете это зачтется, – какой-никакой, а доход. И все-таки было грустно, что мосье Хамиля водят в уборную, и за этим занятием я их оставил, потому что считаю, что грусть искать ни к чему.
Я был еще на лестнице, когда услышал рев Мойше, и вприпрыжку взбежал по ступенькам, боясь, как бы с мадам Розой не приключилось чего неладного. Я вошел и поначалу подумал, что это не на самом деле. Я даже закрыл глаза, чтобы после открыть их поудачней.
Прогулка мадам Розы в машине по тем уголкам где она боролась за жизнь, оказалась для нее чудодейственной, и все прошлое ожило у нее в голове. Она стояла посреди комнаты нагишом и одевалась чтобы идти на работу, как тогда, когда она еще боролась за жизнь. Ладно, пускай я еще ничего не видел в жизни и не имею особого права говорить что ужасно, а что не ужасней прочего, но клянусь вам, что мадам Роза нагишом, в кожаных сапогах с кружевными черными панталонами на шее потому что она перепутала верх с низом, и с грудями, которые превосходили всякое воображение и возлежали на животе, – клянусь, такого нельзя увидеть больше нигде, даже если оно и существует. Вдобавок мадам Роза пыталась вертеть бедрами, как в sex-shop, но поскольку они у нее перешли границы человеческого… ох! Думаю, тогда я впервые в жизни пробормотал молитву – ту, которая за помешанных, – но она продолжала корячиться с плутовской ухмылкой и с такой растительностью на пузе какой я никому не пожелаю. Я прекрасно понимал, что это действие шока который она получила, снова повидав места, где была счастлива, но иной раз от понимания легче не становится, наоборот. Она была до того накрашена что в остальных местах казалась еще голей, а губы складывала этакой мерзопакостной куриной гузкой. Мойше скулил, забившись в угол, а я сказал: «Мадам Роза, мадам Роза» – и кинулся прочь, кубарем скатился по лестнице я припустил бегом. Не для того чтобы спастись, нет, от такого не спасешься, а просто чтобы не быть там больше.
Пробежал я порядком и когда почувствовал что мне полегчало, уселся в темной подворотне, за кучей отбросов, ожидавших своей очереди. Реветь я не стал, в этом уже не было толку. Я зажмурился спрятал лицо в коленях, до того мне было стыдно, подождал немного и призвал к себе фараона. То был самый сильный фараон, какого вы только можете вообразить. Он был в тыщи раз здоровей всех остальных, но еще больше у него было вооруженных сил, чтобы воцарять безопасность. В его распоряжении были даже броневики, и с ним мне уже нечего было бояться, самозащита мне была обеспечена. Я чувствовал, что могу быть спокоен, ответственность он берет на себя. Он отечески обнял меня за плечи своей всемогущей рукой и спросил, нет ли у меня ран от выстрелов, которые я получил. Я ответил, что есть, но в больницу ехать нет смысла. Он обнимал меня, и я чувствовал, что он теперь обо всем позаботится и будет мне вместо отца. Мне стало полегче, и я начал понимать, что самое для меня лучшее – это отправиться жить туда, где все не взаправду. Мосье Хамиль, когда еще не был от нас так далеко, не раз говорил мне, что другой мир создают поэты, и я вдруг улыбнулся, вспомнив, как он называл меня Виктором, – может, это сам Господь давал мне обещание. После я увидел шарики – бело-розовых птиц, надувных и с веревочкой на конце, для того чтобы улетать с ними вместе в дальние страны, – и уснул.