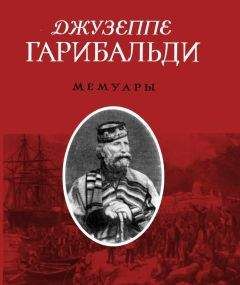Грант Матевосян - Мой волк
— Ох, ослепнуть мне, ослепнуть мне. Если на наших жерновах крупы тебе наделаем, сумеешь как мужчина обед себе сварить? Горячий обед тебе будет, месяц проживёшь, и не хлеб — не испортится. Давай крупы наделаем.
— Сварил бы, да дров нет. Училище когда дрова даёт, в два дня кончаются.
— А кто это Асмик? Скажи Асмик, пусть сварит для тебя.
— Можно, — сказал отец.
«Нет, нельзя, — подумал я, — Асмик узнает, что я ем одну пустую крупу на воде, нельзя».
— Нельзя, — сказал, оторвавшись от книги, Грайр.
Отец с матушкой повернулись к нему:
— Это почему же нельзя, лопоухий?
— Армик влюблён в Асмик.
— Это у тебя в книжке такое написано?
Я сумел не покраснеть.
— Армик, а когда влюбляются, как влюбляются? — спросила Нанарик.
Отец с матушкой засмеялись, и это было спасением для меня.
— Вот как ты в своего отца, — сказала мама.
— Я в отца влюблена, но в Армика тоже.
— А в своего лопоухого братца?
— Грайр мою картошку украл.
Матушка и отец шептались в углу о том, что хорошо бы из этого зерна намолоть для меня крупы. Но я всё равно не стал бы готовить, я бы стеснялся хозяйской дочки. Весело закрутился камень жернова: покачивая большой головой на тонкой шее, Грайр крутил жернов, а Нанарик поджаривала половину зерна для похиндза. Промолотое зерно просеяли, получилась грубая крупа, а то, что не промололось, снова засыпали в жернов. Потом мы промололи поджаренное Нанарик зерно, но, чтобы Грайр не стянул поджаренного зерна, Нанарик отогнала брата и сама повисла на кончике жернова. И получились мелкая крупа, мука и похиндз. Мука тестом сделалась, почти что настоящим, крупа увязалась в отдельный мешок, похиндз сделался ещё одним мешком. Этот вор, этот Грайр успел-таки стянуть похиндза, и всё по вине матушки.
— Всё из-за тебя, — заплакала Нанар.
Молча усмехнувшись, мать про себя пожелала ей светлых, безоблачных дней и хорошего парня, славного муженька, а для Грайра взмолилась, попросила у господа бога должность руководителя хора в тёплых просторных палатах, а меня представила у доски в белой скромной рубашке, объясняющим урок ученикам, и мир весь был таким чистым, и голоса такими ясными, и счастье так звенело, счастья было так много, что мать самой себе отвела место на зелёном кладбище под молчаливыми камнями, и её сердце встрепенулось и зашлось от радости и печали.
— Грайр — за уроки, Нанар — в угол, Армик — в корыто, быстро! — приказала матушка.
— Какое корыто?
— Армик купаться будет!
— Воду я буду лить!
— Ты девочка, Армык — мальчик, стань в углу и отвернись к стене!
— Я вчера мылся!
— А спину тебе кто тёр? Голову кто намыливал? Ноги кто скрёб?
— Кто? Асмик, — прочёл в книжке Грайр.
Мать запихала меня в корыто, и вдруг я увидел, что я голый и держусь за трусы, не даю их стянуть, она вниз их тянет, я вверх. Она, смеясь, шлёпнула меня по руке, я обиделся, хотел заплакать, и вдруг горячая вода залепила мне рот, обожгла голову. Я закашлялся, и вдруг мыло ослепило меня и забилось в рот. Сквозь мыльную пену я разглядел, как хмыкал и таращился на меня довольный Грайр и стояла в углу, послушно отвернувшись, Нанарик. Потом, уже в Кировакане, я понял, чем была занята в своём углу Нанарик. Мне показалось, я удерживаю руками трусы, но трусов на мне не было. Тут уж не то что протестовать — завыть можно было, но вода снова ошпарила мне голову, и руки взлетели вверх, защитить голову.
— Горячо-о-о-о! — Я захлебнулся, и снова мыло залепило мне глаза, и холод неожиданно обжёг мне плечо. — Холодно-о-о!
Я услышал шлепок мокрой руки и смех Грайра (холодной, значит, облил меня Грайр), потом тёплая вода мягко обволокла меня сверху донизу, обласкала, погладила и утешила. Сильные пальцы ухватили мой нос:
— Сморкайся!.. Ещё раз… — И мягкое полотенце крепко обняло, обхватило меня…
Сквозь дрёму я услышал — Нанар укрывает мне плечо, чей-то небритый подбородок поцеловал меня в лоб, в пятке моей заиграла старая знакомая боль, а может, пятка просто зачесалась? Я спрыгнул с поезда и упал в мягкую вату. Это наш дом. Мы возьмём с Грайром санки, пойдём в лес, принесём рассыпающийся от сухости валежник, санки соскользнут с обледенелой тропинки. Чтобы удержать санки и удержаться самим, мы упрёмся трёхами в снег. Санки прыгнут, скатятся с камня. Продрогшие, поёживаясь от холода, мы зададим коровам сена и воды и бросимся к печке. На печку нашлёпаем ломтики картошки, сверху посыплем их солью и сядем читать «Жана-Кристофа». Если заболеем, сокрушённо охая, кто-то поцелует нам лоб — это из другого конца села пришла сестра отца, сквозь дрёму, сквозь забытьё вы различите её встревоженную улыбку и гостинец — одно-единственное яблоко.
— Не поеду в Кировакан!
— Маленький, такой ещё маленький, девяти не сравнялось…
— Холодно, у всех пальто есть, кроме меня… Не нужен мне ваш хлеб!
— Изобью сейчас как собаку!
— Ничего не изобьёшь, а ваш хлеб ешьте сами!
— Ты ведь знаешь, Саак должен твоему отцу. Вернёт долг, купим тебе пальто.
— В мае?!
— Что же нам, пойти убить того человека?
— Мне что, убивайте.
— Ты мой умный сынок, ты моя надежда, моё будущее, ты должен стать помощником своему несчастному отцу, должен первым человеком в Кировакане стать.
— Не стану.
— Станешь и скажешь: моя мать была права.
Вечером мы съели отварной картошки и выпили чаю с мёдом. На подоконнике остывали, чтобы быть потом сложенными в мешок, десять хлебов. Их хватило бы до самой стипендии. Нанарик улыбалась, но потом её стошнило. Сидя в постели, она улыбалась мне, плотно сжав губы, щёчки красные… Отец вернулся из хлева — что он принёс, что он принёс, что принёс? — этой глубокой зимой для Нанарик белое гладенькое яичко принёс. Кто его снёс, кто снёс, кто снёс?..
— Золотое пёрышко.
— А кто съест, кто съест, кто съест?..
— Намажем… намажем… намажем… — заикаясь, пролепетала Нанарик, — намажем на хлеб, получится гата.
Мать тайком утёрла слёзы.
— Не жить ей на свете, не жить, до того она хорошая, что не имеет права жить, — задохнулась мать.
Потом семейство легло спать. Грайр улёгся задницей на подушку, голова между ног, Нанарик упиралась коленом Армику в грудь и улыбалась во сне. Армен подложил ладонь под голову сестрёнки. Он дышал во всю мочь своих чистых розовых лёгких и за каждые десять минут вырастал, вытягивался на целых десять сантиметров. Грайр во сне обманул всех, будто он лисицу поймал, большую, с целого волка, за шкуру пятьсот рублей дадут, отец шёл сквозь мягкие зелёные поля. В тёмной комнате потрескивала, остывая, печка, мама лежала с открытыми глазами и видела этот холодный Кировакан, облитый луной, видела пропитанное мёдом жёлтое лето, белую рубашку на Армене, полное вымя козы и краснеющий помидор на грядке.
— Когда Саак вернёт долг…
Это уже на дороге.
— Когда Саак вернёт долг, пошлите мне, для Грайра куплю ушанку, для Нанарик — пальто.
— Нанар дома сидит всё время, Грайр после обеда в школу ходит. Не нужны им ни ушанка, ни пальто.
— Летняя стипендия четыреста двадцать рублей составляет. Трижды по сто сорок.
— Ты говори и иди. Пальто на тебя сколько стоит?
— Один раз пошёл, чтобы посмотреть, магазин закрыт был. Бегом обратно вернулся.
— Ты как это ноги ставишь?
— Не пойму, то ли чешется нога, то ли болит.
— Ничего, не голова ведь, нога. Человеком станешь, на лошадях да на машинах разъезжать будешь. По телефону позвонишь, скажешь — я это, лошадь за мной пришлите.
— В марте мне приехать на каникулы?
— Смотри сам, как тебе сподручней будет.
— Все разъедутся, что мне там одному сидеть?
— Ты не все, ты Армен, ты должен запомнить это.
— Летом, когда приеду, наберу малины, в Дилижане продадим.
— Подыщи в Кировакане какое-нибудь лёгкое дело, пристройся куда-нибудь сторожем.
— Летом?
— Отстаёшь очень. Болит, видно, нога.
— Не знаю, чешется или болит. Если в деньгах дело, на малине больше заработаем.
— Брось думать про село, оторвись от этой нищеты.
— И летом?
— И летом, и всегда.
Когда я оглянулся с Кизилового холма, он стоял на коленях перед часовней святого Саргиса. Он не был верующим, это для меня он сделался сейчас верующим. Я остановился на холме Подснежников будто бы для того, чтобы поправить мешок за спиной, и тайком поглядел через плечо — он стоял возле часовни посреди белых снегов и махал мне рукой: иди, мол, иди, не останавливайся. В холодном безмолвии я слышал его тоненький, словно песенка прялки, голос:
— Иди, иди, иди…
В Айгетаке я сел передохнуть — в пятке стало покалывать, я подумал, что она занемела, разулся, потёр ногу снегом. И тогда все покалывания объединились, стали клубком иголок, потом боль смягчилась и округлилась, словно варёное яблоко. Пятка была отморожена. Когда я спрыгнул с поезда, я попал в лужу, пятка намокла, я и не заметил, как отморозил её. Боль раздулась и маленькими волнами ударила по косточкам и ушла внутрь. Я взял пригоршню снега и столько тёр эту проклятую пятку, что боль наконец приутихла. Боль потухла. «Ну теперь иди». Я выругал боль, как ругают живого врага. Когда я тёр пятку и боль, съёжившись, уходила в свою нору, я чувствовал, что кто-то тайком смотрит на меня. Я чувствовал этот сторонний глаз и чувствовал, что он мною восхищается, он говорит: «Позавидуешь твоему отцу, такого сына имеет». И я был достоин похвалы.