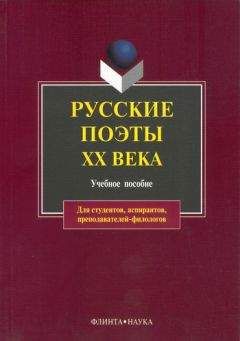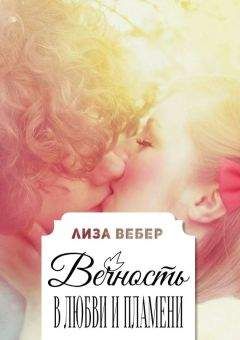Грант Матевосян - Мать едет женить сына
— Серо!..
Интересно, Ованес Туманян больше или Арташес Арзуманян? Арташес Арзуманян специально летал в Америку, чтобы войны не случилось. Говорят, война на носу была — Арташес её не допустил. В те дни по радио и в газетах только и слышалось: «Арзуманян, Арзуманян», и она Арменаку сказала тогда: «Почему не хочешь стать секретарём райкома?» Пьяный был сын, пробурчал что-то вроде: «Не променяю, ни за что не променяю». В Армении тысячи писателей и журналистов, кому в голову взбредёт — пишет. Вон и мурадовский Гикор стихи сочиняет. Адам тоже вздумал жизнь свою на войне описать; Манэ и соседки хлопотали над ковром, варёная картошка остывала на столе, а Адам обмакнул перо и снова задумался. Она засмеялась: думал. Потом он вырвал страничку из тетради, снова обмакнул перо и снова задумался. Арменак засмеялся: «Дядюшка книгу пишет, большие деньги получит». Адам обиделся, оставил на столе холодную картошку, чернила и бумагу и пошёл обтёсывать передок для телеги. И после этого он и его сын Вазген, а с ними и Манэ в один голос кричат, что Арменак не так уж и хорошо пишет. Арменак должен был, как Арташес Арзуманян, в чёрном костюме приезжать изредка в деревню, и чтобы деревенские смотрели на него немного издали, немного робея, а Арменак чтобы подходил к некоторым из них и здоровался за руку. Жалко ведь ребёнка — комната полна дыму, а он всё пишет, пишет, пишет, утром встаёт кислый, недовольный, читает то, что ночью написал, и на мелкие клочки рвёт. А ты тут хвастай, хвались перед Арус, что его одна ночь тысячу стоит. Ничего, сын мой, мучения, они для человека, а в твоей крови заложена привычка к трудностям, ты выдержишь. Вначале мучаются, чтобы потом не мучиться, уж на что Арзуманян могуч — и то ведь не смог приехать на похороны жены из Америки. Не мучаются только воры. И скоты. Они не мучаются. Одни воровством живут, другие — благодаря своим способностям, данным богом и матерью. Самое лучшее — это чтобы и хорошо жилось, и имя чистое было. Конечно, и деньгами можно имя себе сделать, даже чистое имя можно деньгами сделать, но ведь всё равно люди потом скажут — смотрите, вон тот человек денежками имя себе расчистил. Отец твой всю жизнь дерево грыз, ты за бумагу взялся, а мой брат Валод до сорока лет дожил — ни головной боли не знал, ни ещё какой-нибудь. Чистое имя, конечно, хорошее дело, но ведь в мире сколько угодно лёгкой, нетрудной работы… Должен был ты, сын, идти в руководящие работники. Жизнь эта один раз нам даётся, и надо быть в центре её. И вообще, по правде говоря, после меня хоть потоп. Ванкеровский князь Никол кровь из людей пил и пьянел, а мой дед Баго пьянел от голода. Князя Никола все проклинали, а моего священника-деда благословляли. И тот стал прахом, и этот. Один сытым в могилу ушёл, другой — голодным. Все эти памятники, все эти «останется в памяти людской» — пустое всё это. Жизнь нам один раз даётся, а там заколотят ящик — и кончено. И ты с собой унесёшь только то, что видел, то, что любил, что ел и чем владел. А уж что после смерти твоей скажут о тебе люди — какое всё это имеет значение? Мой отец Ишхан воровал, а его брат Вагаршак был неспособен к этому и потому говорил: «Стыдно так жить, Ишхан, нехорошо».
«Дело себе найди, работу подыщи, работу стоящую… — с гримасой приказала из Цмакута в Ереван мать сыну. — Бумагу марать всякий может, вон и мурадовский Гикор уже стихи пишет, ты себе работу приищи…»
«Напечатают статью — тебе кольцо куплю». А если не напечатают? Это то же семя, бросаем в землю, — может, урожай получим, а может, град его побьёт или солнце пересушит, ну а может и так случиться, что под дождём истлеет. Пока рыба ещё в воде — ею не торгуют. Цыплята весной коршуну достаются, осенью — нам. Разуваются у самой воды. Сегодняшнюю копейку на завтрашнюю тысячу не меняй. «Напечатают — кольцо куплю».
«Работу себе найди, безмозглый, работу, говорю…» — помешивая на огне похлёбку для собаки, брезгливо, с отвращением сказала она. «Слушай, мать, дай три рубля, завтра гонорар получу — пятёркой верну». «Ещё три рубля дай, мать, шесть рублей тебе буду должен, гонорар что-то задерживают». «За хлебом иду, мать, подкинь тридцать копеек…»
Когда тебя в Зоовет отправляли, почему упёрся, не пошёл туда? Неужто и этого через побои добиваться надо было? «Пье-су пи-шу». Пиши, пиши, напишешь, поставят, все балбесы в селе рты разинут, народ смеяться станет, а уж Симон-то обрадуется… «За хле-бом и-ду…»
Головная боль началась. Сжав обеими руками виски, она посмотрела кругом, куда бы ей приткнуться. Ещё издали, ещё только подбираясь, подкрадываясь, боль начала безжалостно бороздить мягкий беспомощный мозг, черепная коробка вот-вот должна была расколоться, и верхняя часть её бесшумно должна была сняться с места, и разгорячённый мозг, как молочная пена, должен был хлынуть, рвануться вверх, увеличиваясь в объёме… Сжав голову руками, она толкнула плечом дверь на кухню, и какой-то треск, как близко разорвавшаяся молния, пронзил её всю. «Теннисный стол для школы делаю». В теннис будете играть, только этого нам недоставало. Ох, мамочка, голова моя, мамочка. В темноте она разглядела шершавую поверхность полосатого карпета, накинутого на тахту, и увидела подушку — мутаку, и снова почувствовала твёрдость мутаки и твёрдость треугольного навощённого клочка бумаги в мутаке. «Чтоб тебе подавиться своими писульками, бабка Арус! — Постели были сложены в большой комнате. — Ох, найти бы что-нибудь сильное, что бы сжало голову, как обруч, и держало так. — Она вышла на балкон, и солнце, на секунду вспыхнув, ослепило её и погасло. Сжав голову руками, она стояла не двигаясь, и ей казалось, что просеивает горячую золу. — Ох, мамочка, голова моя… Пройдёт, сейчас пройдёт. Вот дверь, надо только толкнуть её коленом, а дальше — постель и подушка. — Приданое, сваленное в кучу, заслоняло вход. — Как же пройти в комнату? — Сейчас она споткнётся и ударится обо что-нибудь головой. Она стояла, покачиваясь, возле двери и страшилась услышать её скрип. Сейчас поблизости треснет собачий лай. Сейчас петух застрекочет. — Ох, мамочка, некому мне помочь!..»
Ей надо было заткнуть уши, но она забыла сделать это. Вся окунутая в лучи солнца, она стояла возле голубых перил, и покачивалась, и всё хотела дойти до постели в большой комнате, и всё забывала, что для этого надо сделать шаг-другой. Руки её поднялись, как в танце, и, покачиваясь им в такт, она забормотала:
— И на что мне всё это нужно, на что, на что… Да ведь зачем мне всё это, для чего, зачем… Серо! Пусть лучше убьют меня, на что мне такая жизнь, — уронив голову на грудь, как пьяная, шёпотом пожаловалась они.
В доме она упала на стопку сложенных одеял и сказала себе: «Нет, так не годится, так некультурно, — и пошла с подушкой к тахте, и спрятала голову в мягкую мглу подушки, и сказала всем, всем: — Живите как хотите, делайте что хотите, только будьте здоровыми… Ты, боль, да что же тебе надо от меня…»
И, прислушиваясь к боли, она поняла, что боль теперь даже нравится ей.
— Чтоб тебя, — пробормотала она, как человек, прошедший испытание, и вдруг словно споткнулась разом, словно окунулась в тёплую воду.
Будто бы она была хозяйкой четырёх коров и будто бы в горах была. Кругом зелено было, и солнце над головой сияло. И будто бы все четыре коровы были готовы к дою, а четыре телёнка стояли, привязанные к одному колышку.
— Сон мне видится, — пробормотала она и увидела продолжение: она рассказывала сыну, что одно время она очень много летала, теперь почему-то перестала.
Кругом было зелено и солнечно, и сын сказал ей: «Если захочешь, и сейчас полетишь». И вдруг сам взмыл в воздух и полетел. «Иди, иди, нетрудно это, лети ко мне», — просветлённо и радостно позвал сын. «Ах, не осталось уже, не осталось сил для этого, да и коров доить надо», — грустно и притворно ответила она, но вдруг — что это? — полетела. И они летали так вдвоём, над летним выгоном, над селом, над покосами. «Взрослая женщина, а ребяческие сны видишь, — укоризненно пробормотала она самой себе, и вспомнила, что Симон опаздывает, и подумала, что если она куда-нибудь когда опаздывала, то всегда по вине Симона. — Часы не для этих людей существуют, — раздражённо подумала она и тут же сказала себе, что не надо злиться. — Спи, засни, если хоть полчаса сейчас поспишь, на месяц тебя хватит».
…Симон был в городе, поехал продавать сыр, их корова вот-вот должна была отелиться, во всём сведущий и опытный крестьянин Адам оглядел корову и сказал: «Двадцать дней ещё есть». А она не поверила Адаму и всё же легла спать. В полночь, когда самый сон, голос Ишхана позвал её: «Агуник, Агуник, Агуник». Она вскочила и побежала в хлев, в хлеву перед коровой на корточках сидел Арменак и пыхтел от волнения — телёнок шёл неправильно. Они два-три раза заталкивали его обратно, пока он пошёл правильно. «А ты почему тут очутился, Арменак?» — спросила она. «Во сне деда Ишхана увидел, он кричал на меня. «Корова ваша телится! — кричал. — Тебе четырнадцать лет, ты спишь себе, а корова там сейчас сдохнет». Армен не поверил, что мать тоже разбудил голос Ишхана. А эти, и Симон вместе с ними, долго ещё над нею потешались: «Ишхан сказал, телёнок со звёздочкой на лбу хочет родиться, поднимайся, Агуник, Симон в городе сыр продаёт, телёнка тебе принимать».