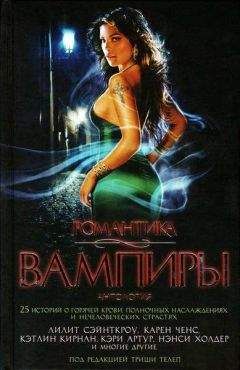Любовь и смерть. Русская готическая проза - Гоголь Николай Васильевич
– Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне; вишь, он и не думает больную тетку навестить.
Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец она несколько успокоилась.
– Я ведь это, батюшка, только так говорю, оттого, что тебя люблю; вот и с Софьюшкой об тебе часто толковали…
– Ах, тетушка! Зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было…
– Так! так-таки! – вскричала тетушка с гневом, – таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту; хотела было тебе комплимент сказать, да вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась… – И полились упреки на бедную девушку.
Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым – никому не было пощады; она с удивительною точностию вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла и на все роптала и опять все свои упреки сводила на Софью.
Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьею, перенести мою душу в ее сердце, – но тщетно: передо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках.
Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом: «Так вы очень обо мне жалеете?»
– Да! Очень жалею и не знаю отчего.
– А мне так вас жалко, – сказал я, показывая глазами на тетушку.
– Ничего, – отвечала Софья, – на земле все недолго, и горе, и радость; умрем, другое будет…
– Что ты там страхи-то говоришь, – вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. – Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она нет-нет да о смерти заговорит. Что, ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? В гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу…
Софья спокойно посмотрела в глаза старухе и сказала: «Тетушка! Вы говорите неправду…»
Тетушка вышла из себя: «Как – неправду? Так ты собираешься меня похоронить… Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела».
В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова: «Злая! Недобрая! Уморить хочет!»
Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала меня.
– Зачем вы вводите тетушку в досаду? – сказал я кузине.
– Ничего, немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает; это ей хорошо…
– Непонятное существо! – вскричал я, – научи и меня умереть!
Софья посмотрела на меня с удивлением:
– Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж вполовину выучен.
– Что ты хочешь сказать этим?..
– Ничего! Так у меня в книжке записано…
В это время раздался колокольчик. «Тетушка меня кличет, – проговорила Софья, – видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не знаешь, о чем плачешь».
С сими словами она скрылась.
Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» – воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною; в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи…
«Нет! – сказал я в самом себе, – соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее, мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.
Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.
«А! – сказал я сам в себе, – зеленый цвет здесь играет какую-то ролю; вспомним хорошенько; некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство – так точно! Преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! В микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы оттого делаются явственнее…»
Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение близилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным, как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью; тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостию простирала ко мне свои объятия.
«Ты не знаешь, – говорила она, – как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат – я сама у старухи вымучу себе кое-что, – и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою – все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! Это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастия. Женись только на мне – ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность – я также; ты любишь сорить деньгами – я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься… Ты увидишь – я мастерица на эти дела…»
Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова – все мне было теперь понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности… Видение исчезло – вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась – это была моя Элиза! О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе – ее кудри, как легкий дым, свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком.