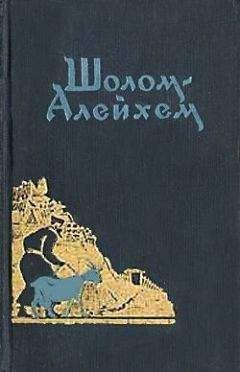Михаил Резин - Бегство талой воды
Вадим:
От него исходит постоянный надрывный и чаще всего не слышимый простым ухом красный стон. Они врут, что держат его ради поучений и назидательности. Они боятся, а потому терпят его чудовищное есть. Они боятся и верят, что его пророчества могут сбыться, что с его кончиной что-то безвозвратно надорвется в мире. Он, пасквиль на человека, изощренная насмешка над образом Божиим, продолжает слоняться по городу, прошивая его улицы, как гвоздь, брошенный в тину. Глаза под багровыми гноящимися веками точатся слезами, руки, грудь, ноги- ошпаренное, обваренное кипятком мясо. Дети, когда случайно выскакивают на него (точно так же выскакивают на проезжую часть за мячом, не помышляя об опасности) впадают в столбняк или заходятся в крике. Слышал и о женщинах, с которыми приключается истерика. И о выкидышах. Да и не все мужчины способны созерцать его. Чем живет он, где живет, что пьет и ест - неизвестно. Похоже, не пьет и не ест, рассчитывая этим укоротить себе жизнь. Напрасно. Похоже, беднягу, поддерживают какая-то потусторонняя энергия, какие-то эзотерические источники. Вероятно, в нем перегорают беды и злоба города. Перегорают, естественно, в крохотной своей доле. Иначе он бы мгновенно испарился, превратился бы в энергетическую вспышку. Прыщ, в прошлом Голубев (имя, отчество, род занятий, возраст - все в темноте, в неизвестности), видом своим и стоном невольно изобличил и проклял всех, кому, как гласит молва, ценой страданий купил временную жизнь и отсрочку для покаяния. Желая спасти,- вот еще одна антиномия! - проклял. В этом повинны, надо думать, слепая ненависть боли, нерассуждающий шок: в чем тут его вина? Недавно видел, как ранним вечером (солнце только что ушло за высотный дом) он сомнамбулически закатился на летнюю танцплощадку, отшвырнув билетершу волной зловония. Немногие юнцы и девчонки прыснули к выходу, зажимая носы и уводя глаза в противоположную от него сторону. Играл магнитофон (ни одна группа музыкантов не смогла бы выдержать ритм и мелодию в его присутствии), звучала сравнительно спокойная музыка, но было видно, что каждый звук впечатывается в его изъязвленную кожу, в его тощие ребра, что он вздрагивает, словно к невидимым клеммам на теле подведен ток. Человек пять пьяных верзил, вооружившись штакетинами, ворвались на танцплощадку и стали охаживать его. Звук от ударов был влажный и чмокающий, словно били по парному мясу. Многие слышали, как он застонал, но один я различил, что это был стон облегчения: ему по-прежнему казалось, что таким примитивным способом он может избавиться от жизни. Я был рядом и бросился на помощь, хоть и чувствовал, что мое заступничество будет ему не по душе. Когда я выволок его с танцплощадки за худую, покрытую фурункулами руку (и мне досталось штакетиной на закуску), он мычал понятное лишь ему и мне: зачем? зачем? пусть бы они убили меня! Я усадил его в траву среди густых кустов, что за танцплощадкой, и попытался узнать хотя бы имя и адрес. Он приподнял голову, собираясь ответить, но передумал. Однако я уловил погашенное в горле: Стас... Я сказал, что он, если желает, может использовать для ночлега наш коллектор. Я объяснил, как туда попасть. Он ответил отстраняющим жестом. Не поднимая головы, нетерпеливым жестом измученного человека он отсылал меня подальше. Я повиновался. Я шел, оборачиваясь на его скрюченную в кустах фигуру. В песочнице у дома играли двое мальчишек и что-то между собой не поделили. У одного оказался обломок пилки по металлу, он полоснул им по лицу другого. Тот схватился за подбородок, из-под пальцев потекла кровь. В тот же момент Прыщ, то есть Стас Голубев, схватился за подбородок и вскрикнул. Совпадение? Но они не видели друг друга, даю слово. Вы и тут можете усомниться и заявить: совпадение... Пусть так, если вы так считаете. Я думаю иначе.
Юноша:
He убивайся так, В чем ты виновата? В том, что ты есть? Что живешь на свете? Что мы назначили встречу именно там? Что он, недочеловек, не знал, чью волю исполняет, решившись оскорбить тебя словом и делом? Что он имел вместо сердца медицинскую грушу? Дай твою руку. Не три глаза. Дай руку, я положу ее сюда, в лодочку своей ладони. Видишь? Я ее положил и успокоил. Успокойся, милая ладошка, полежи в лодочке. Сейчас оттолкнемся и поплывем... Ты отворачиваешься, тебя это не занимает. Ты бы хотела ему помочь? Но это невозможно. Уже невозможно. Помочь его детям, семье? У него нет и никогда не было семьи. Обычный бродяжка. Часто менял работу, жил там, где работал. Фуфайку на пол, рукавицы под голову - и вся постель. Пил, что придется, ел, что придется. Вот ты его жалеешь, а у меня было желание убить его. Я понимаю, что этим только оттолкнул бы тебя, но должен сознаться. Я поддался слабости, я на миг допустил, что тебя можно оскорбить, унизить, испачкать. И этим я уравнялся с ним. Прости. И я дитя народа, который все больше превращается в стаю. И я уродлив, и во мне все его пороки. Я с тобой не потому, что смел и чист, а потому, что нагл. Эту науку преподают нам с детства. Я выродок. Почти все мы выродки. Умелая и жестокая рука долго прохаживалась по цветущему саду. И вот сада нет, а давно уже дрова. Хорошо подсохли, вылежались. Хватит и одной искры. И тут я понимаю твоего деда. Я тоже все больше боюсь за тебя. Да, мы раньше посмеивались над ним, а ведь он прав. Он жалуется, что у него мало сил. Но и у меня мало сил, я это понял, когда он замахнулся на тебя. Все, что я могу сделать,- это отдать жизнь за тебя, умереть за тебя. Возьми себя в руки, к нам идет дедушка, а мне нужно еще тебе сказать важное. Я хочу, чтобы мы поженились. Как Ромео и Джульетта. Мы тоже найдем какого-нибудь брата Лоренцо, и он нас обвенчает. Вот я выговорил. И не умер. А теперь скажи, ты согласна? Посмотри на меня, ты согласна? Мы двое будем семьей. И у нас никогда не будет детей. Иметь детей в наше время безумие. Я никогда не понимал, как родители решаются иметь детей. Страшная безответственность. Без их согласия выдергивать их из темноты, из ниоткуда, а потом еще и наказывать их, злиться на них, что они такие, а не другие, что они хотят то, а не это. Но если бы только родители наказывали своих детей, если бы только на них злились. Каждая собака, каждый репей цепляются к ребенку от рождения, чего-то требуют, что-то ждут, а не получив, пытаются пустить кровь. Родиться в наши дни - это попасть в испытательную камеру еще до рождения. Тебя отравляют и облучают, оглушают и удушают, выбивают мозги, а вместо них специальным кондитерским шприцем вводят жеванину из свинца, бумаги, букв и кличей. Мы поженимся не для того, чтобы жить и плодиться, а чтобы выжить. Двоим все-таки легче. Я тебя люблю. Только тебя и люблю на всем белом свете. Наверное, жизнь наша будет коротка, у нас не будет детей, мы уйдем от родителей. Мы ни с кем не будем делить наши дни, наше время. Дедушка уже рядом. Сегодня я не буду от него скрываться. Он ведет за руку твою перчатку и стучит палочкой. Надо наконец ему все объяснить. Видел ли он ту безобразную сцену? Кажется, он сидел к скверу спиной, беседовал с перчаткой и чертил схему побега. Вытри глаза, он не должен видеть тебя плачущей. И познакомь меня с ним. Пора сказать что я твой лучший друг, а не подонок и соблазнитель. Честно говоря, дедушку бы я взял в нашу семью. Третьим. Нам нужно быть вместе. Вокруг творится что-то неладное... Здравствуйте, садитесь вот сюда. Вам плохо? Я сбегаю за газировкой к автоматам. А сначала к тем типам за стаканом, они и из горлышка свое пиво попьют. Посмотри за дедушкой, поддержи его, на нем лица нет.
Голубев:
С людьми и людям не могу, а расскажу песку, пыли, асфальту. Мои собеседники. Мои слушатели. Им можно рассказывать и не шевелить при этом языком. От языка у меня один обрывок остался. Поделом. Меня зовут Прыщ. Боятся, ненавидят, брезгуют. И правильно. Жизнь кончилась, ушла. Сначала мальчик, детство, а потом все остальное. Потом тот мальчишка, потом ночной поезд. Шофер погиб. Измололо колесами. И ко мне подошла смерть, дотронулась до голого сердца замороженным железом. Меня зовут Прыщ, а звали Голубев Стас Валентинович. Идеологический работник. Уважение, машина, личный шофер, чистая работа. Шофер Ник - школьный еще приятель. Железнодорожник собрал его куски в мой большой портфель. Там были только осколки винных бутылок. Сейчас дети кричат: Прыщ, Прыщ, а мама звала: Стасик. Коротенькая челка, саржевые шаровары, большая книга сказок у мамы на коленях. Отличник. Похвальные грамоты. Набор шашек - приз за победу в школьном турнире. Туш на аккордеоне. Способный мальчик. Мама очень в меня верила. Не стало мамы, и я понял, что можно больше не стараться. И стесняться больше некого. Отец притащил бабу на третий день после похорон. Когда впервые заблеял во мне мой двойник, однорогое мурло? Рано. Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят, лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море... Детский сад, подглядывание в щелки, общие горшки, школа, скверные слова, компания шалопаев, первый алкоголь, первые пьяньчужки-женщины, показывающие все за флакон украденного дома одеколона. Но мама еще жива... И вот она умерла. Разверзлась земля и взяла ее. Свобода своеволия схватила меня за горло, как аркан, и потащила по пыли и грязи. Со стороны же это выглядело примерным восхождением. Блестяще заканчиваю школу, институт, потом общественная работа. Но все это - легкий и поспешный покров. Главное мохнатые ночи. Козел торжествует. К утру он слегка припомаживается, приглаживается. Зеркало, бритва, одеколон. И никто ничего не замечает. Никто не видит, что это козел, а не я, входит в кабинет, жадно пьет казенный боржоми. Потом молодая жена, в прошлом краса факультета, очаровательная пустышка. А потом должности, положение, маленькие и большие приятности этого положения, финская банька в укромном местечке, машина с Ником. Затем поезд и полет под колеса. И смерть приложила косу к моему сердцу. Плашмя. В тот же миг был раздроблен колесами шофер. А потом погиб в деревне Андрюша. А старший ушел в кутежи и мелкое воровство. Одна жена ничего не замечает. Смерть Андрюши никак не отразилась на ней. Она, кажется, даже помолодела. Седину закрашивает уже не каштановым, а оранжевым, апельсиновым. Думаю, и мое исчезновение она приняла за начало каникул для себя.