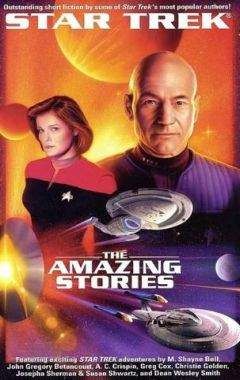Свободин А.П. - Откровения телевидения
обычными, теми, что нас окружают. Скажем, ученые переговариваются по
видеотелефону, и в этом аппарате узнаешь обычный монитор, который встретишь на любой телестудии, здесь обычные столики и стулья, какие увидишь в кафе. Здесь есть аппаратура из реальной лаборатории, а удиви
тельных конструкций, взятых напрокат из журнала «Техника — молоде
жи», нет, удивительных, кстати, тем, что таких никогда не встретишь.
Создателям телеспектакля важно заручиться доверием зрителя к тому, что
они показывают на экране. Кроме того, они помнят, что перед ними
зритель шестидесятых годов, которому «пронзительный скрежет стали,
упруго ударившейся о сталь», может показаться игрушечно-театральным, ибо он уже видел на том же телеэкране мягкую стыковку космических кораблей. Достоверность обстановки на станции не вызывает сомнений.
Возникает доверие к этой среде, этим людям и к самому чуду фантастики. Итак, «рассказ становится человечным...». В нашей телеповести это осо
бенно важно, поскольку, как уже говорилось, не космические, а человече
ские проблемы стали ее содержанием.
История отношений или рассказ о любви Кельвина и Хари, принадлежащий к лучшим страницам повести, здесь, в телеспектакле, прослежен
внимательно, повествуется день за днем —
история возникает, как со
страничек дневника, во всех подробностях.
Сначала Кельвин лишь поражен необычайным сходством призрака с той, «земной» Хари, которую он потерял десять лет назад и о которой помнил все эти годы. Вскоре он понимает, что перед ним таинственная копия,
чудовищная подделка, и избавиться от страшного наваждения становится
главной его целью. Но постепенно его начинает привлекать это странное
существо, эта новая Хари — внимательная, чуткая, мучающаяся от ощу
щения собственной странности... Он проникается сначала сочувствием, потом человеческой жалостью к этому милому, и, должно быть, обреченному существу. И, наконец, он понимает, что любит ее. Любит уже не
воспоминание о той, прежней, земной подруге, как думает Хари, но любит
ее при всей непостижимой странности ее происхождения и бытия.
В. Лановой играет любовь-сочувствие, любовь-жалость, и этот мотив чрезвычайно важен здесь и должен быть нарисован точной рукой.
Стоило актеру чуть огрубить и сыграть любовь, как говорится, «вообще» или, боже избави, нечто страстное, а это было вовсе не трудно, так как сюжетно история на Солярисе развивалась бы при этом без существенных
изменений, — и все приобрело бы тотчас же иную окраску, зазвучал бы
банальный мотив спасения возлюбленной.
Но В. Лановой точен (если здесь уместно такое слово). Стараясь спасти
Хари, уберечь ее, Кельвин старается спасти и уберечь человечность в
себе, свою доброту, свое чувство красоты. Этот важный для спектакля
мотив ясно слышен еще и потому, что роль Хари играет студентка Щукин
ского училища А. Пилюс, сохранившая на экране то, что можно увидеть
лишь на студенческой сцене, в студии... — неопытность, неподдельное
(первое!) доверие, и отзывчивость, и боязнь подделки, фальши... Из этих
подлинных материалов и создается образ юной и странной женщины.
Странность сыграть трудно, как трудно сыграть загадку, не имея за душой ничего загадочного. Удачи в этом жанре
припомнить нелегко, но можно:
например Вертинская —
Женщина-феникс в давнем фильме «Садко»,
странная не сказочным «оперением», а удивительно проникающим и отчужденным взглядом, загадочной сутью своею. А. Пилюс странность удает
ся, причем без всяких фокусов. Приходит на помощь сама ее актерская
неопытность, когда нет еще профессионально деловитой конкретности, за
которой не угадываешь ничего, кроме того, что видишь. И режиссер не
стал преодолевать ее актерскую неуверенность, естественную для студентки, не стал скрывать душевную растерянность, проглядывающую вре
менами, не стал учить неопытность секретам актерского ремесла.
Бережно собрав все эти «недостатки», он извлек из них массу достоинств.
Проведя, по-видимому, сложную работу, требующую и такта, и интуиции, и
педагогического мастерства.
В статьях и рецензиях не принято касаться этой стороны режиссерской
работы, вероятно, потому, что область эта наиболее интимная, скрытая от
постороннего взгляда. Быть может, молчаливо считается, что актерские
удачи — личное дело актера. Но надо же иногда хотя бы удивляться этим
поразительным театральным метаморфозам, когда актер в одном спектакле беден и сер — в другом неожиданно обретает крылья.
Редко приходилось видеть такую естественную чистоту и доброту на телеэкране. Это ценно и само по себе, но особенно ценно здесь, в этом именно
замысле телеспектакля.
В повести во время эксперимента, когда ученые пытаются наладить
Контакт с иным миром и поток мыслей Кельвина, многократно усиленный,
посылают в пространство, Кельвин «думает» в общем-то в соответствии с
программой.
В спектакле все обстоит иначе. Кельвин, обращаясь в неведомый мир,
просит о помощи. Доктор Сарториус об этом, конечно, не знает, но мы-то
явственно слышим этот внутренний монолог. «Оставь Хари!» — много
кратно повторяет Кельвин. Человек ищет защиту у иной цивилизации... от людей, от доктора Сарториуса в первую очередь! Мотив для повести
неожидан, для телеспектакля, пожалуй, естествен, потому что и сам доктор
Сарториус на экране иной, нежели в повести.
Там это
добросовестный и по-своему талантливый ученый-специалист, вызывающий у Кельвина неприязнь лишь своим педантизмом, некоторой
демонстрацией своей бесстрастной преданности истине. В телеспектакле все эти качества сгущаются, вырастают. Здесь это, скорее, четко работающий механизм, перерабатывающий числа, формулы, стерильно чистый, как его белый халат, как гладко выбритое лицо и гладко выбритый череп. Он не самовлюблен, не эгоистичен, не великодушен и т. д. — он бесстра
стен. Поглощен лишь манией сопоставлять, сравнивать. Есть в этом неко
торая опасность схемы, но в телеспектакле осторожно приоткрывается
его прошлое, так фантастически возникающее здесь, на Солярисе, —
прошлое, которое лишь мелькнет за дверью его кабинета женскими руками, настойчивым хохотом, как лучом фонарика выхватив из минувшего какой-то шум пирушки,
по-видимому, холодноватый разврат, куда,
должно быть, время от времени погружал свой мозг молодой ученый. Это
как вспышка. Коротко, недостаточно, чтобы угадать его прошлое, от которого сразу станет понятнее он сегодня.
О том, что происходит на Солярисе — научный эксперимент или убий
ство, — у Сарториуса нет двух мнений: Хари —
лишь материализованная
проекция... А для Кельвина это человек, самый близкий во всем мире.
В превосходно сыгранной сцене Снаут пытается оценить реально сложив
шуюся ситуацию. С редким человеческим тактом он ведет разговор с Кельвином. Он все понимает, этот уже немолодой ученый понимает Кельвина,
понимает, что все против него, что Хари не принадлежит себе и каждую минуту может исчезнуть, что разрыв неизбежен.
Однако доводы Снаута не способны убедить ни Кельвина, ни нас, телезри
телей. Все логично в этих рассуждениях, но не хватает какого-то нравственного основания.
Им так и не удается понять и убедить друг друга. Спор в конце концов
решает сама Хари, которая давно уже смутно догадывалась о странности
своего появления здесь, на станции, о своей невозможности быть всегда рядом с Кельвином. Ночью Хари идет в лабораторию, где мгновенной
вспышкой завершается ее загадочная жизнь...
На этом собственно телеспектакль и кончается. А нас не покидает ощуще
ние, что совершено преступление, и мы знаем виновных —
это доктор
Сарториус и это Снаут... да Снаут. Потому что здесь, на телеэкране, судьба
Хари не связана с судьбой Контакта, с иным миром вообще, она подчинена ей, переплетена с нею, но имеет собственную ценность. Вот почему убеди
тельность доводов Снаута не абсолютна для нас. История Хари восприни
мается как частный, но человеческий случай на одной из космических