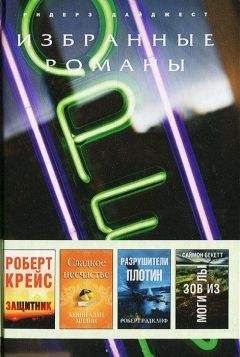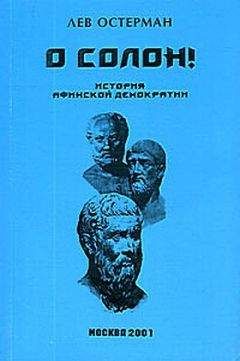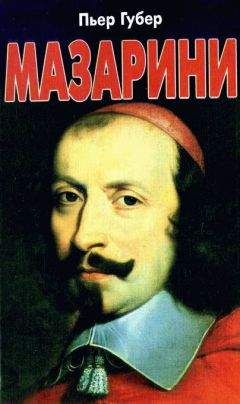Пьер Адо - Плотин, или простота взгляда
"Если душа остается на уровне Ума, она, конечно, видит прекрасные и достойные формы, но она еще не получает всего, что ищет. Тогда это – как если бы перед нею было лицо, без сомнения прекрасное, но не радующее глаз, ибо в нем еще нет того, что притягивает взгляд: соединения красоты с грацией" (V 17, 22, 21).
Слово произнесено: это "нечто", это движение и жизнь, которые, соединяясь с красотой, вызывают любовь, – есть грация (grâce). Плотиновское переживание позволило воспринять Жизнь как созерцание, как конкретную простоту, как присутствие. Теперь оно улавливает ее сущность: жизнь есть очарование.
Никому не удалось понять все значение плотиновского переживания лучше, чем Ф.Равэссону в его "Философском завещании".
"Грация, – говорит он, – есть "эвритмия", то есть "движение, приносящее радость". Она проявляется в движениях, выражающих самозабвение, благосклонность, вдохновение. Художники стремятся уловить ее в повороте головы, в женской улыбке. Но можно также ощутить ее в основных движениях живой природы, таких, как взмахи и волнообразные изгибы. "Следи, – говорил Леонардо да Винчи, – за изменениями любого предмета, то есть замечай в любом предмете, если хочешь хорошо его понять и хорошо изобразить, эту грацию, которая ему свойственна"" ("Завещание", стр. 83).
С точки зрения Плотина, если бы вещи были просто таковы, каковы они есть по своей природе, сути и структуре, они не были бы приятны. Иначе говоря, любовь всегда выше, чем ее объект, как бы он ни был высок. В нем нет объяснения и обоснования любви. В любви всегда есть некий "плюс", – в ней есть нечто неоправданное. И то, что соответствует этому плюсу, – это грация, это Жизнь в одеянии самой глубокой ее тайны. Формы и Структуры можно объяснить. Но жизнь и грация необъяснимы. Они – "дополнение", и в этом привнесенном дополнении заключено все. Плотин видит тут "печать Блага":
"Всякая форма сама по себе – лишь то, что она есть. Но она становится желанной, когда Благо изливает на нее свой свет и пробуждает любовь тех, в ком она вызовет желание" (VI 7, 22, 1).
Итак, то, что Плотин называет Благом, есть одновременно и то, что, даря грацию, вызывает любовь, а пробуждая любовь, выявляет грацию. Благо – и это то, чего желают все живые существа, это нечто абсолютно желанное. Мы говорили, что любовь и грация не обоснованны, ибо само Благо абсолютно необоснованно; не то, чтобы оно было случайно или неожиданно, но, поскольку оно само желает своего существования, то, будучи тем, чем желает быть, легко порождает любовь, которую живые существа будут испытывать к нему, и очарование, которое оно им придаст. Впрочем, все формулировки не в силах передать то, что душа узнаёт о Благе, когда постигает любовь.
Равэссон в точности повторяет этот ход плотиновской мысли. Если полное грации движение является моментом самозабвения, значит, оно выявляет природу творческого принципа. Жизнь есть очарование (grâce), ибо Бог – это благодать (grâce). Привлекательность (grâce) вещей происходит от божественной доброты:
"Бог открывается сердцу в благодати (grâce)" ("Завещание", стр. 83).
Двоякость смысла* здесь очень важна, как это хорошо понял А.Бергсон: "Человек, смотрящий на окружающий мир глазами художника, прозревает грацию в красоте и доброту в грации. Движением своей формы любой предмет выказывает бесконечную щедрость приносящего себя в дар принципа. Не зря называют одним словом очарование, которое проявляется в движении, и акт великодушия, свойственный Божественной доброте, – оба смысла слова "grâce" составляли одно для г-на Равэссона"
* Н.Bergson, "La Pensée et le Mouvant", p. 280.
Добавим, что для Плотина они также сливаются в одно понятие: грация, о которой он говорит, выявляет благодать Божественного деяния. Пусть читатель не смущается – это не христианизация Плотина. Слишком очевидно, что он игнорирует или отрицает идею нового созидания во Христе, составляющую сущность христианского понятия о благодати. Щедрость Божественного действия – лишь частица этого понятия, и не самая характерная. Если философское рассуждение осуществится до конца, тем более при стремлении выразить содержание мистического переживания, оно тоже придет к этому понятию щедрости: станет очевидным, что любой необходимости и долгу должен предшествовать абсолютный импульс изначальной свободы и любви.
* * *
Чувство любви! Прежде всего это ощущение бесконечного порыва:
"Души касается веяние, которое ей сообщает Благо. Она тотчас приходит в волнение, она вне себя, она полнится желаниями. Рождается любовь. Пока душа не испытала любви, ее не привлекает Ум, как бы прекрасен он ни был. Ибо красота Ума как будто инертна, пока не освещена сиянием Блага... Но с первым касанием вышнего тепла душа обретает силы, она пробуждается, ее крылья крепнут, и, хотя она сразу же проникается любовью к объекту, в данный момент самому близкому, вольная душа воспаряет к другому объекту, если он выше, как если бы в ней жило смутное о нем воспоминание. И доколе существуют объекты любви более высокие, чем тот, который ей доступен, она естественным образом стремится ввысь, возвышаемая Тем, от кого получила дар любви. И при этом она превосходит Ум. Но она не может выйти за пределы Блага, так как дальше Него ничего нет" (VI 7, 22, 8).
Читатели Платона могут узнать здесь образы, заимствованные из описания любовного волнения, увлекающего душу к Благу в себе, как оно дается в "Пире" и в "Федре".
Верно, что у Плотина, как у Платона, взлет души берет начало от пережитого любовного переживания. Но представление об этом переживании у двух философов различно, так что Плотин, используя платоновские термины для описания душевного волнения, вкладывает в них совсем иное психологическое содержание. Любовное отношение, о котором говорит Платон, – это связь, которая в античной Греции могла установиться между учителем и учеником.
Осуждал Платон противоестественную любовь или нет, но любовь у Платона – это любовь между мужчинами. Объект любви – юноша, любящий – зрелый муж, пусть даже философ. Любовь влюбленного к любимцу вызывается, – говорит Платон, – отражением Красоты в себе, которое влюбленный замечает в любимце. При этом душа вспоминает о мире Идей и стремится к прямому созерцанию, лицом к лицу, а не в качестве отражения, чистой Формы Красоты в себе. Таким образом, любовь у Платона – результат очень сильного волнения чувств. Но при помощи интеллектуальной и моральной дисциплины она приходит к видению чистой Формы Прекрасного в себе. В этот момент любовное отношение влюбленного к любимцу не разрушается, а только сублимируется. Влюбленный по-прежнему любит возлюбленного, но для того, чтобы направлять его, чтобы возвысить его в свою очередь до созерцания Прекрасного, чтобы взрастить в нем высокие добродетели и прекрасные мысли. Так, став духовной, любовь к ученику добивается того, чего ей недоставало бы, если бы она оставалась плотской, – плодотворности. Но отношение, связывающее влюбленного с Прекрасным, совершенно отлично от того, какое его связывало с любимцем. Любящий не может занимать по отношению к Прекрасному позицию учителя, любящего своего юного ученика. Очевидно, на этом уровне любовь либо трансформируется, либо исчезает. Не есть ли она дочь "Нищеты" ("Пир", 203 b)? He знак ли это некоторого изъяна? Любовь у Платона – только средство, только метод, каждая стадия которого необходима, но который становится ненужным, когда цель достигнута.
Психологическая сущность любви у Плотина совсем другая. Мы далеки от Афин IV века до Рождества Христова. Рим, особенно имперский Рим, "греческую любовь" не приемлет. Самому Плотину она противна.
"Однажды ритор Диофан прочел текст, восхваляющий Алкивиада в "Пире" Платона; он утверждал, что ради добродетели ученик должен удовлетворять любовные желания своего учителя. Плотин волновался; несколько раз он вставал, чтобы покинуть собрание; но он сдержался и, когда слушатели разошлись, приказал мне написать ответ. Диофан не захотел дать мне свою книгу; я восстановил его аргументы по памяти и перед собранием тех же слушателей прочел свой ответ. Плотин так был им доволен, что, пока я читал, все время повторял: "Так порази его, так, если подлинно светоч ты людям"" (Жизнь Пл. 15, 6).
В школе Плотина взаимоотношения между учителем и учеником очень дружеские. Но нигде нет ни намека на двусмысленные чувства. Кроме того, Плотин не живет в исключительно мужском мире:
"Были также женщины, очень к нему привязанные: Гемина, в чьем доме он жил; ее дочь Гемина, которую звали, как и ее мать; Амфиклея, ставшая женой Аристона, сына Ямвлиха. Эти женщины очень интересовались философией" (Жизнь Пл. 9, 1).4
Таким образом, психологический климат школы Плотина глубоко отличается от того, какой был в Академии Платона. Но констатации этого факта еще недостаточно, чтобы мы могли понять дистанцию, отделяющую Плотина от Платона. В плотиновском переживании ново то, что оно изначально мистическое. Платон описывал в поэтических и красноречивых терминах любовное волнение, которое любящий испытывает по отношению к любимцу. Начало любви было плотским. Затем, следуя стремлению души ввысь, любовь давала толчок интеллектуальной, почти научной деятельности. Следовательно, у Платона любовь не была по существу "мистическим порывом".*