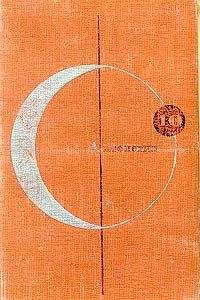Александр Янов - Россия и Европа- т.2
С другой стороны, после Николая мечта эта жива, как нам еще предстоит увидеть, во многих умах и сегодня (несмотря даже на то, что умы эти не имеют ни малейшего представления, кому они ею обязаны). И уж во всяком случае в 1914 году мечта эта в российской элите, как подробно показано в заключительной книге трилогии, присутствовала точно. Мечта о «Великой России» пронизывала тогда мышление всей поголовно российской элиты — от крайних консерваторов-монархистов до самых радикальных либералов. Из-за этой-то мечты и ввязалась тогда Россия в совершенно ненужную ей и самоубийственную мировую войну, к которой абсолютно не была готова. Более того, следовала она тогда именно последнему внешнеполитическому сценарию Николая, тому, который включал в себя, как мы помним, всё то же преобладание на славянских Балканах — до Адриатического моря — и, само собою, завоевание Константинополя.
Короче, несмотря на возражение моего корреспондента, что «правительство Александра сильнее подействовало на умы и души современников*, чем правительство Николая», я не знаю никакого другого феномена в русской истории послепетровского периода, который отвечал бы обоим критериям. Даже александровская мечта о конституционной монархии не пережила не только николаевскую диктатуру, но и царствование самого Александра I (этот политический вакуум, собственно, и пытались заполнить декабристы), после чего практически исчезла с горизонта до самого начала XX века. А потом и вовсе скончалась своей смертью.
Но пора, наконец, объяснить, что именно имею я в виду под этим самым важным идейным наследством Николая, которое, не-
8.0. Ключевский. Сочинения, т. 5» М., 1958, с. 340.
24 А.В. Пресняков. Апогей самодержавия, Л.. 1925, с. 15.
смотря на свою важность, полтора столетия оставалось почему-то в тени во всех без исключения исследованиях той эпохи, какие мне известны. Я имею в виду
Глава шестая Рождение
наполеоновского комплекса НаПОЛвОНОВСКИЙ
комплекс России
Речь идет, собственно, не о какой-то специально российской, но о европейской болезни (и это еще раз доказывает, что Екатерина была права и даже в болезнях своих оставалась Россия, вопреки Официальной Народности, державой европейской). И вообще называю я её так лишь потому, что самым ярким примером — и жертвой — этого комплекса в новое время была именно наполеоновская (и постнаполеоновская) Франция.
Удивительно, право, как Наполеон, гениальный во многих отношениях человек, не понимал абсолютную тщету своего доминирования в Европе и кровавой её перекройки. Да, он стал хозяином континента, вождем европейской сверхдержавы. Но ведь ясно же было, что вся его постройка до крайности шаткая, что ни при каких условиях не переживет она своего создателя и даже в самом лучшем для него случае развалится после его смерти, как карточный домик. И к чему тогда окажутся все его войны и триумфы? Тем более, что заплатить за них пришлось страшно: целое поколение французской молодежи полегло на европейских и русских полях. Во имя чего? Что осталось от всей этой помпы, кроме безымянных могил неоплаканных солдат в чужих, далеких краях?
Еще удивительней, однако, что очевидная бессмысленность сверхдержавных подвигов Наполеона ровно ничему не научила его последователей, неукоснительно встававших один за другим в череду воителей за «первое место в ряду царств вселенной». Ни Николая I, ни Бисмарка, ни Вильгельма II, ни Гитлера, ни Сталина, ни даже Буша. И если Бисмарк оставил после себя единую Германию, то ведь ту самую, которой после него суждено было стать нацистским Рейхом.
Это обстоятельство подсказывает нам, что наполеоновский комплекс, о котором мы говорим, вовсе не сводится к одной лишь жестокой тщете временной сверхдержавности среди «царств вселенной» (постоянной, как свидетельствует история, она никогда не была и быть по природе вещей не может. Это знал еще Корнелий Тацит, предсказавший крушение Римской сверхдержавы от рук германских варваров за столетия до того, как оно произошло). Хуже то, что болезнь эта имеет коварное свойство давать рецидивы. За первой фазой наполеоновского комплекса неизменно следовала вторая, едва ли не более жестокая. Ибо что-то Наполеон (и Николай, и Вильгельм, и Сталин) после себя все-таки оставляли. И то была пронзительная национальная тоска по утраченной сверхдержавности.
Если первая фаза наполеоновского комплекса опиралась — и опирается — просто на право сильного (так соблазнительно, оказывается, чувствовать, что нет нам на земле равных или, как услышим мы еще от М.П. Погодина, что «Россия может все, чего же более?»), то ключевым словом второй всегда был реванш. Иначе говоря, со страной, на долю которой выпало историческое несчастье побывать на сверхдержавном Олимпе (и неизбежно после этого оказаться разжалованной в рядовые), происходит, по сути, то же, повторю метафору, употребленную в третьей книге трилогии, что с человеком, потерявшим на войне руку. Руки нет, а она все болит. Человек, конечно, сознает, что боль эта лишь фантомная. Но разве становится она от этого менее мучительной? Потому и называю я вторую, реваншистскую фазу наполеоновского комплекса «фантомной».
Каждый школьник знает, чем кончилось для наполеоновской Франции катастрофическое падение со сверхдержавного Олимпа — страна пережила неслыханное национальное унижение, была оккупирована чужестранцами и в довершение всего к власти в ней вернулись ненавистные Бурбоны, свергнутые четверть века назад революцией. И все-таки не пошел ей на пользу страшный урок. Жажда реванша оказалась сильнее. Не прошло и двух поколений, как Париж опять отдался Наполеону. Конечно, другому на этот раз, «маленькому», как назвал его Виктор Гюго, Наполеону III, но все-та- ки Наполеону. В надежде, что сорок лет спустя магия имени каким- то образом вернет стране утраченное сверхдержавное величие.
В Германии эта демонстрация мощи фантомного наполеоновского комплекса заняла намного меньше времени. Здесь жажда реванша оказалась еще острее, и уже 15 лет спустя после падения
в революционном Берлине Вильгельма II сменил его Гитлер. В России, однако, дело затянулось. Четыре поколения прошло прежде, чем Сталин заменил Николая I. Но затянулось это в России лишь потому, что ни один из самодержцев, следовавших за Николаем Романовым, не оказался способен сыграть роль Наполеона III. Понадобилась тотальная смена элиты, свежая кровь, проснувшееся «мужицкое царство», чтобы нашелся такой претендент. Но вовсе это не значит, что русская публика не маялась в тоске по реваншу между 1855-м и 1945 годами совершенно так же, как маялась в свои «фантомные» времена публика французская или немецкая.
Разве не обещал русскому народу А.С. Хомяков, что «Станешь в славе ты чудесной/ превыше всех земных сынов»?25 Разве не был уверен Ф.М. Достоевский, что обновление человечества совершится «одною только русской мыслью [и] русским Богом»?26 И не о том же ли тосковали в эмиграции даже осколки рухнувшей империи Романовых? Тосковали сменовеховцы, видевшие пример для советской России в фашистской диктатуре Бенито Муссолини, который, как мы помним, поклялся возродить великую империю Рима. Тосковали евразийцы, проектировавшие «континентальную и мессианскую» империю на просторах Евразии. Да зачем далеко ходить, если и по сей день тоскуют по евразийской сверхдержавности генералы, как Л.Г. Ивашов (председатель, между прочим, Державного союза) и вдохновляющие их идеологи, как А.Г. Дугин, по-прежнему видя в ней будущее России? Вот послушайте Дугина: «Этот Проект нисколько не утратил своей силы и привлекательности. Его реализация зависит от нового поколения. К нему и обращен евразийский призыв, ему вручен евразийский завет».27
Какувидим мы еще и на многихдругих примерах, не покинула Россию жажда сверхдержавного реванша и в наши дни. Что уж и говорить тогда о трех поколениях, отделявших николаевскую эпоху от крушения «архаического старого режима», для которых реванш стал национальной идеей?
«Русская идея», М., 1992, с. 244 (выделено мною. — А.Я.).
Там же, с. 242.
П. Савицкий. Континент Евразия, М., 1997, с. 9-10.
Глава шестая Рождение наполеоновского комплекса
еется,
Точка отсчета разум еется.
такие дерзкие утверждения не доказыва
ются несколькими пышными цитатами из Хомякова, Достоевского или неоевразийцев. Чтобы на самом деле показать, как взлет и падение российской сверхдержавности при Николае «определили настроения и мировосприятие» современников (я намеренно употребляю здесь выражение своего корреспондента), нужно что-то куда более весомое и убедительное. Вот я и попробую, как обещал в предыдущей главе, подробно проследить развитие взглядов М.П. Погодина и Ф.И. Тютчева, не худших, согласитесь, современников Николая (а заодно и создателей мифа, поссорившего его с имперской элитой). А чтобы дать читателю возможность судить о том, как разительно отличались их настроения и мировосприятие от настроения людей александровской эпохи, я познакомлю его с последним, как говорят, письмом одного из самых ярких и представительных людей той эпохи, которого Герцен, как мы помним, назвал «человеком петровского времени, западной цивилизации, верившим при Александре в европейскую будущность России».28 Пусть настроение и мировосприятие Петра Яковлевича Чаадаева послужит нам точкой отсчета. Письмо это, своего рода манифест александровской эпохи, известно главным образом экспертам, но безусловно заслуживаеттого, чтобы современный читатель знал его настолько полно, насколько это возможно. Вот оно.