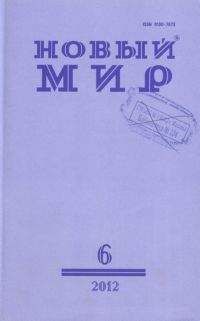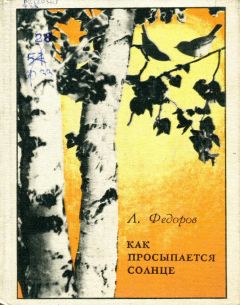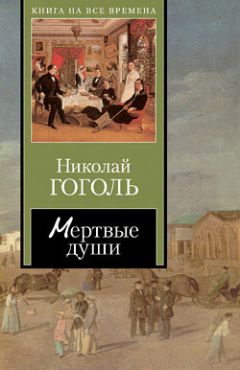Гоголь Н.В. / Авакян Ю.А. - Мертвые души, том 2
Дней через десять после посещения его превосходительством канцелярии генерал—губернатора Павел Иванович решил нанести визит своему благодетелю генералу Бетрищеву, дабы, держа нос по ветру, не упустить нужного для сватовства часу. Он не допускал и мысли, что Александр Дмитриевич мог быть неравнодушен к судьбе жениха своей дочери и даже пытаться как—то повлиять на решимость князя довести это дело до конца. Чичиков думал, и, признаться, не без оснований, что Тентетникову просто будет отказано от дому, о нём забудут, как только за ним захлопнется дверь острога, и с весёлым выражением в чертах лица станут дожидаться другого жениха, которым и будет он: коллежский советник Чичиков Павел Иванович—сын. Поэтому он был очень удивлён тем приёмом, что был оказан ему генералом Бетрищевым. Да, собственно, приёмом это можно было назвать лишь с весьма большою натяжкою. Посудите сами: не успел ещё наш герой ступить на порог генеральского дома, как навстречу ему попался великан—камердинер его превосходительства, волокший ко двери все пожитки Павла Ивановича. На изумлённый вопрос Чичикова, куда это он собирается отнесть его багаж, камердинер отвечал:
— Приказано отнесть к вам в коляску, как только вы, барин, объявитесь...
И, пройдя мимо ничего ещё не понимающего Чичикова, камердинер поволок весь его скарб дальше. Но ему недолго пришлось изумляться происходящему, потому как в прихожей появился генерал: грознее тучи, страшнее самого ада был его вид. Встрёпанная шевелюра, налитые кровью глаза, расстёгнутая рубаха, из—под которой выглядывала могучая, поросшая седыми волосами, грудь.
— Ах ты, мерзавец! — пророкотал генерал, хватая Чичикова за грудки.
— Не понимаю, ваше превос... — начал было Чичиков, но генерал так дёрнул его вверх, что Чичиков почуял, как уходит у него из—под ног пол, и сила, которой он не ожидал в генерале, поднимает его вверх.
— Ах ты, мерзавец! — хрипел генерал, тряся висящего в воздухе Чичикова так, что у того даже забренчала мелкая монета во фрачном кармане, а сам фрак затрещал в подмышках.
Чичиков пытался было что—то пробормотать в своё оправдание, но ему не хватало воздуху, ибо так крепки были объятия Александра Дмитриевича, и потому Чичиков сумел лишь просипеть что—то сквозь стиснутое, сжатое в генеральской горсти, горло. А генерал Бетрищев, так и не отпуская Чичикова, словно боясь того, что он осквернит своими стопами пол, пронёс нашего героя через всю прихожую и, пройдя во двор, бросил его, точно куль с мукою, в стоящую тут же у ступеней каменной лестницы коляску, что жалобно взвизгнула всеми своими рессорами под тяжестью обрушившегося в неё веса.
— Я не понимаю, ваше превосходительство, — начал было Чичиков, но генерал не дал ему договорить.
— Вон отсюда! — заревел он. — Вон отсюда, доносчик, гадина! Вон, а не то велю собак спустить.
Он подступил к коляске настолько близко, что Чичиков, испугавшись, как бы ему снова не угодить в генеральские объятия, крикнул, хлопнув Селифана ладонью по спине.
— Погоняй! — и повалился на дно своего экипажа, ибо кони так резво рванули с места, что Чичиков не успел даже уцепиться за борт коляски, а та, качнувшись из стороны в сторону, пророкотала по камням, мостившим двор усадьбы генерала Бетрищева, и понеслась прочь, покидая эту усадьбу навсегда.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Порою, когда, обмакнувши перо в чернила, водишь им по бумаге безо всякой цели, выписывая строку за строкою в пустой надежде, что вот оно — сейчас снизойдёт вдохновение и снова побегут, посыпятся из—под пера дробные и округлые слова, точно жемчуга, нанизанные на золотую нить мысли, то в подобную минуту многие вопросы встают предо мною, и не всегда бываю я в силах найти ответы на них. Иные так и остаются неразрешёнными, прочие же исчезают сами собою, словно и не было их вовсе, словно не вспыхивали они в моей голове и не тревожили душу мою. Но есть такие, что остаются со мною навсегда и своею загадочностью точно заноза бередят мой мозг, всё возвращаясь и возвращаясь ко мне, вновь рисуют пред моим внутренним взором горящий, изогнутый загогулиной вопросительный знак.
Тогда кажется мне, что это происходит неспроста и кто—то пытливый шлёт их раз за разом, надеясь получить, наконец, от меня ответ.
И это тоже один из тревожащих меня своим неотступным постоянством вопросов. Как и по какой причине выпала мне эта доля — писать в назидание окружающим? Ведь я никогда не хотел быть назидательным, почитая назидательность вовсе несовместимою с истинным искусством. И если быть до конца искренним, а я смею надеяться, дорогой мой читатель, что ты меня именно таковым и почитаешь; итак, если быть до конца искренним, то я вовсе не верю в то, что кто—либо, прочтя мои писания, скажет: "Да, это я! Прости меня, Господи!" И устыдится, и "исправит стопы своя". О, это было бы очень и очень просто. И тогда я писал бы, писал бы и писал назидательные тексты один за другим и чувствовал бы себя самым счастливым существом на земле... Хотя кто знает, ведь вполне может быть, что многие из тех, что пишут назидательные тексты, и чувствуют себя самыми большими счастливцами. Вот, возьмите для примера какой—либо кусочек какого—либо текста из каких—либо "Уложений о положениях", ну, хотя бы такой: "Деяние, подпадающее под описанное в параграфе десятом главы второй, должно, также, быть отражено и в параграфе семнадцатом главы четвёртой, оба из которых (пар. 10, гл. 2 и пар. 17, гл. 4) совокупно соответствуют параграфу двенадцатому главы девятой и влекут за собою..." — и так далее, и так далее.
Ведь согласитесь со мною, читатели, что подобное мог написать только очень счастливый человек. И куда мне до него, уверенною рукою нанизывающего параграф на параграф, точно куски шпига на иглу, куда до него мне, нервно грызущему кончик пера в ожидании вдохновения. Увы, увы, ведь не в силах заставить я даже своего героя исправиться сей же час, отказаться от злых подстраиваемых им козней, раскаяться и расшибить себе лоб в коленопреклонённой молитве.
Да, конечно же, я могу написать фразу: "Проснувшись поутру, Павел Иванович почуял неодолимое желание отправиться в церковь, где, проведя несколько часов кряду пред образом Спасителя, вышел на улицу совсем другим человеком". А затем приписать — "конец поэмы".
Ну что, сделать это прямо сейчас, не отрывая пера от бумаги? И вы поверите, господа, что это действительно так, что этою фразою всё исчерпано, всё прощено и окончено; все слёзы высохли и раны заросли? Может быть, так оно и бывает в мире, построенном в воображении того счастливца, что искусно нанизывает параграф на параграф, но не здесь, не с нами и не сейчас. О чём остаётся лишь горько сожалеть. А посему герою нашему предстоят ещё многие дела, ещё целых две главы до завершения этой второй части поэмы, а он уже рвётся далее и уже брезжит где—то в недалёком, хотелось бы думать, будущем и третий том, который и должен завершить жизнеописание Чичикова Павла Ивановича. Каков он будет, чем завершится, мы не можем сказать в точности. Знаем только, что предстоит посетить ему обе наши столицы, пережить многие приключения, повстречать многих из старых своих знакомцев, с коими имели счастье познакомиться и мы, а затем... Ну, да ладно, что будет затем, вы, любезные мои читатели, узнаете позднее. Одно лишь скажу — многими путями предстоит пройти ещё нашему герою, потому как вся жизнь его — это один нескончаемый путь, по которому катит он в компании верных своих Селифана с Петрушкою, бежит вдогон за брезжущей где—то в неведомой дали удачей, меряет версту за верстою, надеясь настичь счастье на пустых, продутых ветрами, просторах России.
Прошло поболее месяца после происшествия, имевшего место в поместье генерала Бетрищева. Нельзя сказать, что герой наш очень уж был оскорблён тем случаем, скорее, он был даже доволен, что ему удалось убраться подобру—поздорову и что гнев генерала хотя и достигнул до него, но не поразил насмерть, и он отделался, помимо испуга, всего лишь ещё и небольшим синяком в той известной области тела, которую имел несчастье ушибить, падая в коляску после произведённого его превосходительством броска. Но синяк сей давно уже прошёл, и Павел Иванович, не чувствуя ни нравственных, ни телесных мучений, время от времени всё же ощущал в сердце своём досаду от того, что рухнула так внезапно вся эта затея с приданым и что оно, может быть, достанется неизвестно кому. "Ну да ладно! Ну да и чёрт с ним!" — говорил он себе всякий раз, как только досада эта просыпалась в нём, и тотчас же старался обратиться мыслями к чему—либо иному, приятному, благо поводов для подобных приятных мыслей тоже было предостаточно: и театр с несравненной Жози, и почитание его всеми в доме у Александры Ивановны Ханасаровой, у которой он теперь, после разрыва с генералом Бетрищевым, поселился, и сближение его с губернатором, да и просто вечера, проведённые за картами в компании верных ему друзей, таких, как Варвар Николаевич Вишнепокромов или Модест Николаевич Самосвистов, тоже согревали его сердце, прогоняя из него досаду; и, улыбаясь этим греющим его мыслям, Чичиков приободрялся и приходил в хорошее настроение.