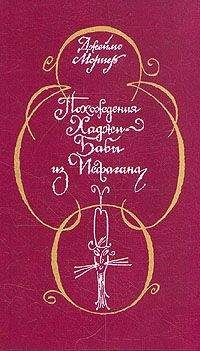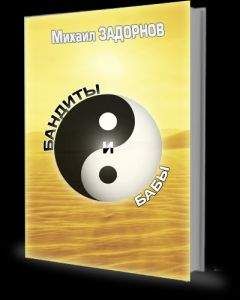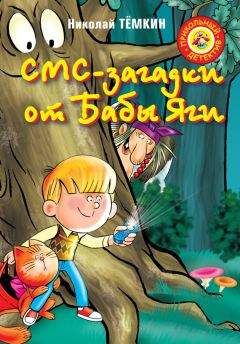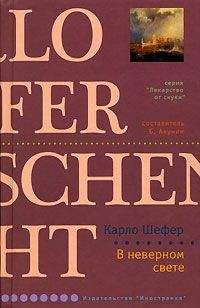Gurulev - Rosstan
Сердце взыграло радостью, Лахов нетерпеливо, с подрагиванием в руках снял хариуса с крючка, сменил помятого кузнечика и забросил спиннинг снова. На этот раз поплавок встал четко, выставив над водой бамбуковый стерженек с черной головкой ровно настолько, насколько нужно, и замер. Где-то там в глубине по солнечному дну гуляли рыбьи косяки, и один из хариусов должен непременно наткнуться на кузнечика, соседствующего с бордовой «мухой». Лахов мысленно видел, как красноперый красавец боковым зрением приметит наживку, развернется в ее сторону, замрет на мгновение и, как по струне кинется к кузнечику, ухватит его раскрытым ртом, чтобы через короткий миг, почувствовав железо, выбросить наживку. И на этот короткий миг чуткий поплавок плавно огрузнет, притонет.
И поплавок притонул. Он притонул классически, как было бы показано в учебном фильме о ловле хариуса, если бы такой фильм существовал. Лахов подсек и почувствовал, что подсек вовремя. Радостный азарт охватил Лахова, его истосковавшуюся о рыбалке душу; весь мир для него сузился и вмещал только то, что могло иметь отношение к делу, которым он был сейчас занят. Но зато этот мир жил, жил своею жизнью, взахлеб, по его жилам бежала живая кровь азарта, страсти и ощущения великого смысла в том деле, которое сейчас делалось. И он, как совершеннейшее из совершенных существ, с обостренной ясностью, без всякого усилия воспринимал все, что имело отношение к этому делу, которое составляло сейчас его жизнь: он улавливал еле заметное усиление ветра и ряби на воде, отмечал положение солнца в небе, чувствовал, насколько ослабла лодка, и точно знал, сколько она еще продержит его на плаву, видел малейшее движение поплавка и знал, рыба ли тронула его, или мелкая волна колыхнула, ощущал натяжение лесы и знал, когда нужно потянуть сильнее или дать слабину, чтобы испуганная рыба не сорвала себя с крючка.
Ощущение азарта оставило его, когда на дне лодки лежало уже около десятка рыбин, а в коробке из-под наживы остался один мелкорослый кузнечик с потертыми крылышками и оторванной ногой. Лахов хотел наживить его, подумал, снял со спиннинга бордовую «муху» и, порывшись в сумке, отыскал «муху» морковного цвета. Поплавок недолго оставался на воде без движения, довольно скоро притонул, и Лахов выбросил в лодку еще одного хариуса, правда, заметно помельче всех остальных. Видно, там, в рыбьей иерархии, эту еду хоть и признали за еду, но посчитали совершенно недостойной внимания сильных и уважаемых особей и потому позволили ее взять существу рангом пониже.
Ловить рыбу было больше не на что, и Лахов поднял якорь. Гордый добычей, грудой серебра, лежащей на дне лодки, он медленно греб к берегу, но постепенно радость его тускнела, как тускнеет чешуя хариуса, полежавшего на воздухе: вроде все то же белое серебро, ан нет в нем игры, нет блеска. Берег по-прежнему был пуст, никто не ждал его на берегу, обрадовать своей удачей было некого, и потому удача тускнела, теряла свой живой блеск. Видно, так же себя чувствовал бы человек, смотрящий в совершенно пустом зале прекрасный, веселый и увлекательный фильм.
Хоть и хотелось Лахову еще порыбачить – да и чего проще: налови кузнечиков и снова садись в лодку, – а делать этого было уже нельзя: в такую жару рыба быстро пропадет, нельзя ее долго хранить. А уже пойманную рыбу одному и за двое суток не съесть.
Был когда-то с Лаховым случай, запомнившийся на всю жизпь. Лет пятнадцать назад Лахов проводил отпуск по тому давнему обыкновению в стороне от цивилизации. В тот раз был выбран залив Братского водохранилища, глубоко врезавшийся в глухую тайгу. Едва установили палатки на крутом берегу, куда доставил отпускников зафрахтованный на ближайшей пристани катерок, как Лахов с приятелем, сгорая от нетерпения, схватили спиннинги и отправились испытать рыбачье счастье. Братское море в то время было молодое, бурно наполнялось жизнью и не было еще измучено резкими и губительными для живности перепадами уровня воды и многими другими болезнями. Правда, хариус, таймень и ленок, оставшись без холодной и чистой ангарской воды, тут же куда-то и подевались, но зато озерная рыба, на обширных и богатых выгулах плодилась и размножалась. Тучнели косяки сороги, а около них косяки полосатых окуней, а среди этой живности набирали вес многочисленные щуки.
Едва Лахов забросил блесну в теплую и мутноватую воду залива, как на ней повисла щука. На прибрежном мелководье, среди затопленных кустов, щуки было столь много, что, казалось, никакая другая рыба не проживет в этих водах и короткой минуты и будет тотчас проглочена. Щуки жадно, по-разбойничьи остервенело кидались на блесну, и Лахов, охваченный азартом, не заметил, как за короткое время выволок из воды чуть ли не двадцать хищниц. Такой же улов был и у приятеля. Прикинули общий вес улова – за полсотни килограммов. Вот тут только и подумали: а куда нам столько? Хоть и большим табором жили в то лето – человек пятнадцать, – а некуда было деть такую уймищу рыбы. Ее жарили, варили, фаршировали, пытались даже коптить, и за три дня принудительного поедания рыбы – помнилась еще война, помнились голодные годы, и сама мысль, что еду можно выбросить, казалась кощунственной – щука надоела так, что на нее не хотелось и смотреть. Но самое главное – нельзя было рыбачить. Лахов сидел на берегу богатого водохранилища, слушал на вечерней заре рыбьи всплески и тосковал о рыбалке.
Хоть и не было в жизни Лахова больше подобного случая, когда не знал он, что делать с пойманной рыбой, а урок тот запомнился, и запомнился надолго.
Лахов разжег костер, сварил из двух крупных хариусов уху, уха получилась неудачной, скорее всего потому, что он рано сбросил в кипяток рыбу, не дождавшись, когда сварится картошка, передержал рыбу на огне, и она разварилась. Он вяло хлебал из котелка, чувствуя, как его душу наполняет знакомое беспокойство и угрюмое глухое раздражение. И не было, казалось, причины для таких чувств – все хорошо, все есть, ничего не болит, – а мир терял свои яркие и радостные краски, становился плоским и тусклым.
– Неврастеник, – вслух обругал себя Лахов, и ему показалось, что голос его, не предназначенный ни для чьих ушей, прозвучал на пустынном берегу ненужно и не полетел над землей и ввысь, как обычно, а склубился невидимо около самых губ и опал на песок.
Он еще раз внимательно оглядел долину, словно отыскивая для себя хоть какое-нибудь дело, чтобы привязать себя к ней, почувствовать свою родственность с этими местами, но все: и вершины сопок, и каменные осыпи, и луговины – существовали сами по себе, не звали, не манили. И только дорога, с крутым поворотом уходящая за сопку… Дорога звала. Дорога не могла без него существовать. Дорога приемлет всех, кто по ней идет или едет.
«Ехать надо», – подумал Лахов.
И все сразу встало на свои места и все обрело привычный смысл. Он ест потому, что нужно есть. Он сядет за руль машины, побегут навстречу сопки, и ветер будет врываться в открытые стекла. И он, Лахов, будет спокоен и деловит. Только вот куда ехать и зачем? Разве кто-то и где-то ждет его? Разве он найдет более прекрасное место, чем это, где он сейчас живет? Разве… Во вновь обретенной радости Лахов не дал себе долго думать.
Он торопливо доел уху, кое-как ополоснул котелок, покидал вещи: полуспущенную лодку, палатку, спиннинг, котелки с рыбой, топорик – в багажник и на заднее сиденье и через четверть часа был готов ехать.
*
К паромной переправе на остров Лахов приехал в солнечный и ветреный полдень. Ветер устойчиво тянул с севера, и в проливе гуляла крутая, густой синевы и зелени, с белым завитым гребнем волна. После недавних жарких дней было прохладно, даже немного знобко, и потому как-то не верилось в эту солнечность, но чистого и истового света было столь много, что приходилось невольно щурить глаза.
Еще не зная, поедет ли он на остров, и томясь этой неопределенностью, он подал машину чуть в сторону от накатанной дороги, ведущей на пирс, и остановился около уреза воды, рядом с полузасыпанной песком старой рыбацкой посудиной. Почти всю обшивку с посудины растаскали на дрова, и теперь баркас оголившимися ребрами-шпангоутами напоминал павшую лошадь, над которой крепко потрудилось воронье.
«Ну, переправлюсь на остров, – думал Лахов, – а дальше что?» Он представил, как едет по пыльной и пустынной островной дороге между серых холмов и сопок и не знает, куда ему хочется ехать – прямо, влево или вправо, – когда все дороги кажутся одинаковыми, и переправа представилась лишенной всякого смысла. И тут же на помощь пришла успокаивающе-оправдательная мысль: а вдруг заштормит море по-настоящему и надолго и тогда придется куковать на острове неизвестно сколько дней. «Да, скорее всего, дикого туриста, особенно механизированного, и не пускают на остров», – успокоил себя Лахов окончательно.
Но оставаться и здесь не хотелось. Наверное, он бы с легкостью остался, если бы нашелся тихий и спокойный, радостный для жизни угол, но он знал, что нет такого угла, по крайней мере, не получится это у него – спокойствия, душевной расслабленности, умиротворенности.