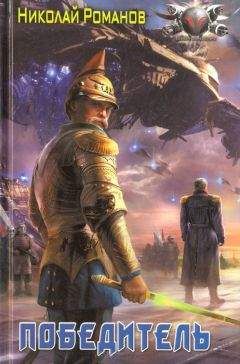Неизвестно - Якушев Место, где пляшут и поют
Он сжал губы, заложил меж бровей суровую складку и сдвинул с места мотоцикл.
— Ну, пошел я, — были его прощальные слова. — Волка ноги кормят.
Сундуков вяло салютовал, шагнул к своей двери и наконец сообразил, что дома может оказаться жена. Она работала страховым агентом, и график ее был непредсказуем.
“Все —тлен, —с раздражением подумал он. —Что, собственно, стряслось? Вытрезвитель! Небось, когда смотришь ежедневно смерти в лицо… Не говоря уже о других лицах…” укоризненная мордочка Василиска с готовностью выщелкнулась перед мысленным взором.
— Вот именно! — сказал Сундуков и открыл дверь.
Привычный застоявшийся запах ворвался в ноздри, обволок его целиком —запах старого барахла, никому не нужных книг, остатков завтрака, потных тинэйджерских кроссовок. В обманчивой тишине, будто завязший в паутине слепень, верещал незавернутый водопроводный кран.
“Боже, сотвори чудо!” — сказал Сундуков, зная, что Бог не услышит.
На кухне его ждали — жена и остывшая картошка, прилипшая к сковороде. Сундуков сделал вид, что не заметил ни того, ни другого. Перебирая в уме сплошь безнадежные варианты, он плеснул себе холодного чаю. Семейная жизнь — это передний край, минные поля и проволока с гремучими консервными банками. Двигаться здесь надо скользящим шагом, держа язык за зубами.
“Что за пойло? —Сундуков, кривясь, отхлебнул заварки. -Хотя бы хороший чай мог быть в доме. Пусть все летит в тартарары. Пусть ничего не будет, но чай должен быть хорошим. Чтобы чувствовалось что-то благородное во рту…” Но во рту было по-прежнему гадко, и Сундуков понял, что на кухню пришел зря.
— Что-нибудь скажешь? — с торжественной ненавистью спросила жена.
— Что же я тебе скажу? — пробормотал Сундуков, тоскуя о мировом эфире.
Жена, глядя в упор на его расползающееся лицо, произнесла раздельно и внятно:
—Ты —придурок! Ты хоть понимаешь, что ты придурок? Придурок, понимаешь?! —слово проговаривалось с болезненным наслаждением человека, выдавливающего гнойник. Сундукова от этого голоса тошнило.
“Слава богу, кажется, собирается уходить, —подумал Сундуков. —Причесана, подкрашена… Возможно даже, вне дома, тронутое холодком улиц, ее лицо кому-то может еще показаться привлекательным. Только не мне. Мне она напоминает женоподобную куклу, героиню неприятной полузабытой сказки… Может быть, Гофман?”
— В какой канаве ты провел ночь на этот раз, придурок?
—Почему в канаве? —с некоторым вызовом сказал Сундуков. -Могла бы для разнообразия предположить, что я провел ночь с женщиной…
—Ты? С женщиной? —изумилась жена. —Это оригинально! Но я даже вообразить не могу ту идиотку, которая…
Судуков смирился. Он тоже не мог вообразить. Что да, то да.
—Посмотри на свою рожу! —посоветовала жена. —Ты уже становишься похожим на своих покойников. На семью-то тебе плевать, это понятно, так хоть о себе подумай. Сдохнешь ведь однажды, придурок!
“Ишь ты, о себе… —Сундуков вспомнил утренние чаепития наспех, зубную боль пробуждений, евангельские чтения на радио. —Сказано же: “неужто своими заботами сумеете вы продлить себе жизнь хоть на час?…”.
—И не то жалко, что сдохнешь, —резюмировала жена, —а на что хоронить?.. Гуренки полмиллиона в последний раз требуют. Дальше —суд. У тебя есть деньги? —вопрос прозвучал уже из коридора, где она надевала плащ. —По-хорошему, надо бы, чтобы ты попал под суд… Таких отцов надо судить! А еще лучше —кастрировать заранее, пока они не успели наплодить себе подобных… Я ушла. Жрать захочешь —разогрей картошку. А вообще подумай, хорошенько подумай, что будет дальше!..
“Дальше? — удивился Сундуков. — Но что такого может быть дальше?”
Он наконец остался один. Даже кожей он чувствовал, как его окружает особенная ликующая пустота. Одиночество стало теперь роскошью гораздо большей, нежели человеческое общение. Но Сундуков понял, что и на этот раз не сумеет насладиться этой роскошью, потому что в поту и тревоге будет искать сигареты.
Он обшарил карманы всех курток и пиджаков, включая особый летний, надевавшийся для дачных рейдов, пахнущий потом и бесплодной землей. Он чувствовал себя старым и грязным как этот пиджак. Внутренним взором он видел смертельно желтые бляшки в сосудах изношенного сердца и пугался до дрожи. Но сигарета сильнее смерти, и он не оставлял надежд. Сундуков перерыл письменный стол сына (ведь не может быть, чтобы негодяй не курил!), он взбаламучивал пену чужих секретов, нисколько в них не вникая, отбрасывая в сторону все, что казалось ему хламом, и набрел-таки на коллекцию сигаретных пачек —абсолютно пустых. Они даже пахли не табаком, а сырым асфальтом. “Это ошеломительно”, —тупо подвел итог Сундуков, давя в ладони жесткую коробочку “Кента”. Раскопки он продолжал просто по инерции. Поиски завершились сюрпризом. В нижнем ящике под растрепанными журналами обнаружилась толстая и роскошная книга в “супере”. Название ее ошарашило Сундукова и заставило забыть о себе. Эта штучка была посильнее “Фауста” Гете, а, может быть, и фаустпатрона тоже. Она называлась “Как увеличить размер полового члена”. Труд был солидный, объемлющий историю предмета со времен фараонов и снабженный массой дотошных красочных иллюстраций. Сундуков ужаснулся, представив, как, в придачу к огромным ушным раковинам, сыну удается обзавестись еще одной выдающейся частью тела. И хотя не вполне было ясно, какой катастрофой может это обернуться в практической жизни, его эстетическое чувство взбунтовалось.
Однако тут же Сундуков опомнился и с негодованием возразил сам себе, что дело не в эстетике —просто подобной макулатуре не место в столе подростка. “В былое время, сказал он, —ты и помыслить бы не смел, что такая книга вообще может существовать в природе!” Он неуверенно посмотрел на грозный фолиант, будто надеясь, что тот все-таки растает как мираж или обратится в какое-нибудь легкое чтение из серии “Тебе в дорогу, романтик”. Как отец он, наверное, обязан принять некие соответствующие меры, исполнить какой-то педагогический трюк, но ограничился тем, что отправил книгу на антресоли. Туда постепенно попадало все, что уходило из жизни, —счастливые фотографии молодости, старые наивные письма, запиленные пластинки, грамоты за добросовестный труд. Сундуков машинально отряхнул ладони, как человек, закончивший трудную работу, бесцельно прошелся по комнате. Он не умел жить без сигарет. Он включил телевизор, тут же о нем забыв, и даже вздрогнул, когда включился экран, а на экране обозначился некий молодой человек с упрямой светлой челкой и недобрыми глазами. Он выглядел настолько реальным, что, казалось, еще секунда и он вылупится из телевизора, как цыпленок из яйца. Сундукову сделалось совсем плохо.
А молодой человек вдруг простер к нему цепкую руку, в которой была зажата какая-то гадость, и зловеще проговорил:
—На помойке возле детсада, —губы его страдальчески искривились, —найдена вот эта жуткая кость. Большая белая кость с клочьями фиолетового мяса!.. Чья это кость? Сейчас этого уже не скажет никто!
Смятение достигло предела. Горло Сундукова перехватила сухая волчья тоска. Казалось, выгляни он сейчас в окно и взору представится голая пустошь, усеянная большими белыми костями. И никто на свете не скажет, чьи это кости.
Ничего страшного, подумал он, обращусь к соседям. Раз они швыряются такими чудесными яблоками, сигареты для них и подавно не проблема. Обращусь. Митрохин меня отшил, и эти отошьют, ничего страшного. А потом пойду и повешусь на батарее парового отопления.
Гущин вломился в кабинет как загнанный мамонт. Едва переведя дух, он прямо с порога прогремел: “У тебя по тому, резецированному, все готово?” и рухнул на стул.
—Заканчиваем, —кротко сказал Сундуков, отводя воспаленный глаз от окуляра микроскопа.
Работа у него шла туго. Сундукова неотступно преследовало наваждение —полмиллиона. Все было —полмиллиона. Он с этой цифрой ложился и с нею же вставал. Любой паршивый лимон на прилавке неизбежно распадался в его глазах на два пол-лимона. Звезд на небе было точно —полмиллиона. И даже грошовая сдача в табачном ларьке вызванивала те же полмиллиона. Об этой цифре с великолепным равнодушием недееспособного ежедневно напоминал сын. Во сне являлся алчный призрак Гуренко, страшно, как ржавой цепью, гремящий нулями. Сон внезапно обрывался, и, таращась в
темноту, Сундуков вдруг начинал лихорадочно бормотать что-то вроде: “Все нормально… Мои родители были простыми служащими… Я сам не был, не привлекался… Все нормально…”. Он стал остерегаться пить водку.
Работал он кое-как, путал бумаги и, в довершение всего, потерял последние приличные ножницы, чем привел Гущина в исступление —оставив свои обыкновенные придирки к Светлане, тот целиком переключился на Сундукова.
—Заканчиваешь, значит? —подозрительно спросил Гущин, раскачиваясь на стуле, который под его грузным телом трещал как погибающий корабль.