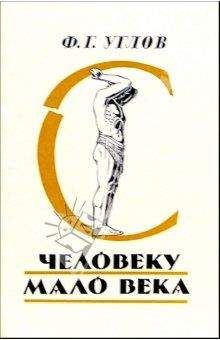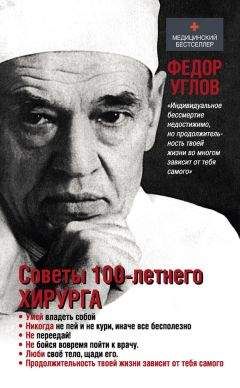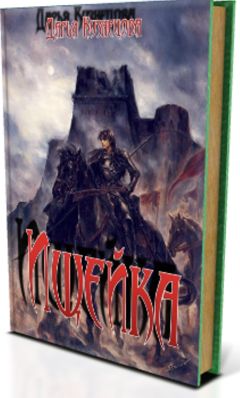Федор Углов - Сердце хирурга
После операции, несмотря на то, что были до предела измотаны, мы ни на час не оставляли больного – дежурили возле него. Он был в плохом состоянии. И как ни старались разными средствами придать ему силы – не удалось. Скончался он на четвертый день… На вскрытии причину смерти установить не смогли. Операция была сделана правильно, все швы хорошо держали, пневмоторакса с другой стороны не обнаружили. Несчастный, видимо, умер от травматичности самой операции.
Очередная неудача к прежней горечи и прежним сомнениям добавила чувство уныния. Николай Николаевич тут же на следующий день распорядился выписать из клиники всех больных раком пищевода как неоперабельных.
Вечером мы вышли из клиники вместе с Чечулиным и долго шли молча, думая, наверно, об одном и том же.
– Как, Федя, не усомнился? – вдруг спросил он. – Не опустились руки?
– Как видишь, Саша, прежние они, – ответил я, показывая ладони.
– Выходит, повоюем?
– Иначе не мыслю.
– Тогда к твоим вот тебе моя рука! – Его рукопожатие было крепким, ободряющим, как обещание в трудностях находиться рядом.
А жизнь клиники шла своим чередом. Научные планы, обновляемые ежегодно, новые темы работ, новые поиски… Николай Николаевич, как всегда, строго требовал от нас лишь совершенно объективных данных, полученных на основе беспристрастного изучения фактов; не уставал повторять, что для науки одинаково важны как положительные данные, так и отрицательные – лишь бы они были точны и честны.
Он, всячески поддерживавший наши начинания в хирургии легких и пищевода, стремился, с одной стороны, оградить своих учеников от неудач, с другой, вместе с нами искал пути к новым попыткам… Вопрос ставился так: на первых порах не нужно брать на операцию очень тяжелых больных. Неуспех при операции у них надолго отодвинет возможность оперировать более крепких людей.
Но одно дело планировать, сидя в кабинете или в библиотеке за книгой, другое дело – шумно врывающаяся в двери клиники сама жизнь. Она заставляет оставить в стороне все холодные рассуждения, и мы поступаем так, как подсказывают нам чувства и совесть.
Так совершенно неожиданно нам пришлось принять в клинику больного в крайне тяжелом состоянии.
Михаил Иванович Тропин работал бухгалтером в леспромхозе карельского поселка Лахденпохья. В свои шестьдесят лет он не знал, что такое болезни, а если, случалось, подхватывал простуду, парился в собственной баньке и пил чай с малиновым вареньем, а потом укрывался медвежьей полостью… Наутро знакомой дорогой шел в контору. И когда подписывал документы на выплату кому-либо денег по медицинскому бюллетеню, качал головой, словно недоумевая, как это люди умудряются болеть. Казалось, что долгий и надежный век отпущен ему судьбой.
Но однажды, торопясь на службу, он проглотил кусок жесткого мяса, не разжевав его как следует. Проглотил и тут же почувствовал: кусок застрял в пищеводе. Стал пить воду, много пил, и в конце концов кусочек сдвинулся, прошел вниз, оставляя после себя след жгучей боли. Дня два после этого ощущалось жжение за грудиной. А потом все забылось, но, как оказалось, до поры до времени. Стал Михаил Иванович замечать, что боли, впервые возникшие в тот злополучный день, нет-нет да и появляются. Особенно если случалось глотать что-нибудь твердое…
Когда я увидел его перед собой, он не ел и не пил уже восьмые сутки. Худой, совершенно обессиленный, с черными провалами глаз, он сразу же напомнил мне того таежного охотника из Киренска, у которого я вытаскивал из пищевода застрявший кусочек мяса щипцами… Но тут было пострашнее.
Сам повел его в рентгеновский кабинет к нашему доброму товарищу во всех начинаниях Андрею Андреевичу Колиниченко. Если того требовали интересы больного, интересы дела, Андрей Андреевич никогда не считался со временем, мог трудиться над рентгеновскими снимками и бронхограммами до поздней ночи. Они получались безупречными. А ведь как много значит хороший снимок для правильного диагноза!
В рентгеновском кабинете Андрей Андреевич, дав больному небольшой глоток жидкого бария, показал мне, что барий остановился в средней трети пищевода. Ни одной капли не прошло в желудок! Опухоль располагалась в самом опасном, в самом неблагоприятном для операции месте. Вместе с Колиниченко и подошедшим сюда же Чечулиным мы долго сидели перед снимком пищевода. Было о чем поразмышлять… Ведь после двух неудач нам так хотелось подобрать для операции «удобного» больного! Случись вслед за теми двумя третья неудача – надолго, может навсегда, отодвинется разрешение этой задачи, которая пока еще была со столькими неизвестными!
Однако когда я пришел к поджидавшему меня в кабинете Тропину, чтобы отказать ему в операции, увидел, что безысходность в его глазах при виде меня вдруг сменилась такой надеждой, что язык не повернулся передать ему наше решение. Сел напротив него и сказал:
– Михаил Иванович, операция на пищеводе сверхопасная. Она еще в хирургии не отработана. Ни у кого нет опыта. Вряд ли следует идти на такой риск.
– Хуже не будет, – ответил Тропин. – Если умру, мучениям конец. А так чего ждать?
– Я обязан сказать: почти никакой надежды, что удастся сохранить вам жизнь, – произнес я страшные по своей сути слова, давшиеся мне нелегко. Надеялся, что, может быть, они заставят больного отказаться от операции.
– Пусть, – отозвался он. – Вы сказали: «почти»… Есть хоть один процент из ста в мою пользу. Делайте!..
– Подумайте…
– А что мне думать? Даже если нет никакого «почти», все равно согласен. Буду надеяться на чудо. А без операции мрак впереди. Пустота. Муки. Сколько-то дней и… вечная тебе память, Михаил Иваныч… Не так ли, доктор?
Что я еще мог ему сказать? Он не хочет мириться с болезнью, а кто из нас поступил бы иначе? Разве я не просил бы хирурга вырезать опухоль, появись она у меня? Мы дорожим жизнью, потому что другой нам не дано…
Я отдал приказание в срочном порядке принять больного Тропина в клинику, с тем чтобы в самые ближайшие дни сделать ему операцию. Оттягивать было нельзя. Он и так истощен и обезвожен до предела.
Операция состоялась 3 июня 1947 года.
Каждый в клинике, и в первую очередь Николай Николаевич, знал о больном все: кто он, откуда, какова степень его заболевания. И каждый понимал: неудача надолго отодвинет разработку в нашей клинике вопросов хирургического лечения рака пищевода. Учитель, когда я передал ему содержание своего разговора с больным, сказал мне:
– Ты поступил как надлежит врачу.
Это было похвалой.
На операцию пришли все. Чувствовалось, что за меня переживают, я как бы держал экзамен и за себя, и за всех сразу. Чечулин и Мгалоблишвили подготавливали больного…
Операцию приходилось вести под местной анестезией, но на всякий случай подготовили наркоз, чтобы хоть на короткое время раздуть легкие, если вдруг случайно порвем правую плевру… Ах, нам бы интратрахеальный наркоз с повышенным давлением, под которым оперируют американцы! Но об этом можно было лишь мечтать…
Опухоль у Тропина оказалась подвижной.
– И то хорошо, – проговорил Александр Сергеевич Чечулин. – Значит, расположена в стенке пищевода, не вышла за его пределы. Еще бы правая плевра была незадетой!
Осторожно освободив пищевод в нижней здоровой части, мы обхватили его тесемкой, пересекли все нервные и сосудистые ветви, ограничивающие подвижность, и, подтягивая за тесемку, стали освобождать пищевод в той части, где крылась опухоль. С особой тщательностью отделили весь пищевод от правой плевры и от всех других органов, в том числе и от дуги аорты. Первую часть операции, как молвится, «слава богу!», провели благополучно. И главное: выделили опухоль, не поранив правой плевры, чего так боялись! Теперь маленький перерыв, нужный для отдыха, не столько бригаде, сколько больному, чтобы поднять снизившееся давление… Нам же по стакану крепкого чая.
Во втором периоде операции следовало освободить желудок ото всех спаек и поднять в грудную клетку. Не работа – мытарство! Двое погибших от подобной операции больных стоят перед глазами! Не повторилось бы… Те погибли уже спустя какое-то время, в палате, а этот лежит сейчас на операционном столе, и одно плохо рассчитанное или неуверенное движение, какая-нибудь внезапная ошибка – быть беде.
Нужно перевязать левую желудочную артерию, а к ее основанию никак не подберешься. Дело в том, что, оперируя Гущина, я вскрыл грудную клетку в девятом междуреберье. Здесь же, зная, что опухоль расположена высоко, пошли через шестое. Это и затрудняло подход к брюшной полости.
Разъединив ткани, отодвинув печень и желудок, я прощупал короткий, но широкий сосуд. Работая в глубине, как в воронке, не имея возможности видеть этот сосуд, я наложил на него две лигатуры с расстоянием меж ними около сантиметра. Следовало рассечь его точно посредине. Взял длинные ножницы, примерился, нажал, и сильная, показавшаяся мне жгучей, струя крови ударила в лицо, залепила глаза. Ничего не видя, я просунул руку к артерии и, придавив ее к позвоночнику, остановил кровотечение. Повернул лицо к санитарке, продолжая сдавливать кровоточащий сосуд, выждал, когда мне вытрут глаза и я снова смогу видеть… Как теперь наложить зажим на короткую культю сосуда, сократившуюся и ушедшую куда-то в глубь забрюшинного пространства? Медлить нельзя. А в это время В. Л. Ваневский тихо сообщает: «Давление упало, нужен перерыв!»