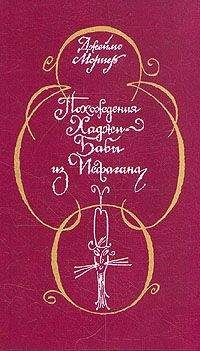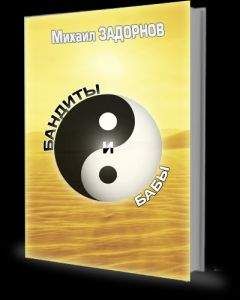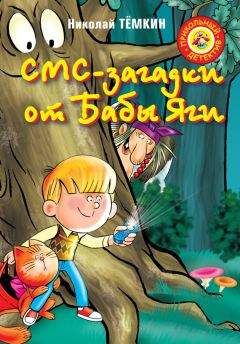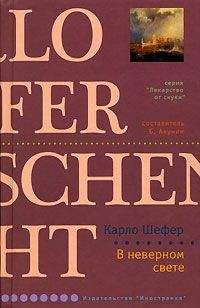Gurulev - Rosstan
– Как это брызгать? – не сразу сообразил Лахов.
– Маленько водку пить. На землю брызгать.
– А-а, – вспомнил местный обычай Лахов, – нужно угостить духа, хозяина здешних мест. Так это место святое?
– Конечно, конечно, – подтвердил чабан. Говорил он по-русски правильно, но с заметным акцептом, сохранившимся лишь у сельских стариков, и слово «конечно» больше слышалось как «ханечно».
Лахов вспомнил, что у местных бурят орлан – священная, обожествляемая птица – так ему приходилось слышать, – и подумал, что орлан немного напугал и пастуха.
– Оно, конечно бы, и можно, чтобы не сердить бурхана, отец, но как на это посмотрит ГАИ? В таком деле для шофера любой автоинспектор опаснее бурхана.
– Нельзя так говорить, – остановил пастух Лахова. – Беда нехорошо.
Лахов и сам понял, что негоже шутить над стариком и хозяином здешних мест, от которого порой зависит вся, полная случайностей, пастушеская жизнь: сколько народится веселых и резвых ягнят, удастся ли уберечь отару от волков и как перенесут овцы зиму, когда стужа, когда буран, когда длинные темные ночи.
– Ну тогда не будем нарушать традицию, – согласился Лахов. Сейчас он даже радовался этой предстоящей остановке на вольных просторах в своем новом, вольном естестве, хотя одновременно испытывал и приглушенное беспокойство: все-таки неурочное время, а впереди еще дорога. И еще – как часто это теперь случалось – грезились смутно, расплывчато какие-то неприятности, природу которых Лахов не мог бы определить при всем желании. Неуютно, беспокойно где-то там, в глубине души – вот и все. Раздражаясь на самого себя за то, что не может и короткого времени прожить в спокойной радости без непонятного чувства вины за несделанные проступки, Лахов тут же решил: а не поеду я никуда, поваляюсь, позагораю и заночую тут. Отдохну. Было бы куда спешить. Вольный ведь я человек. Хоть на полмесяца, а вольный.
Он достал кружки, в которых они только что пили чай, вначале налил самую малость, на донышко, потом добавил еще, прикинув, что надо будет поделиться и с духом этих мест.
Старик не спеша принял кружку, оглядел свои сопки, отару, небо, аккуратно и вежливо полил камень водкой и выпил. Плеснул на камень из кружки и Лахов. Ему даже нравился этот обычай. В нем и благодарность к земле, где ты сейчас живешь, и память о тех дорогих тебе людях, которые ушли из жизни, но не ушли из твоих воспоминаний, потому что ты жив.
– Тебя как звать? – чабан достал потертый кожаный кисет, черную гнутую трубку и набил ее табаком.
– Алексеем.
– Меня Николаем зови. Можно дед Николай. Как хочешь зови. Разве можно духа сердить?
– Чего нельзя, того нельзя, – согласился Лахов.
О злых кознях местных духов, обиженных неуважением, Лахову приходилось слышать немало. Да и как не вызреть было на этой земле вере в неведомое, если сопки ее огромны и вздыблены чьей-то мощью, если время от времени вздрагивают эти сопки, тронутые глухой подземной силой, если небо над этой землей осенними ночами черно, бездонно и в осыпи ярких звезд, если земля эта дика и красива и все еще осталась такой, какой была и сотни лет назад. Разве вот только дороги появились.
Одну историю, которая со временем скорее всего размножится и обрастет таинственными подробностями, Лахов слышал перед самым отъездом на Байкал от своего знакомого, человека интеллигентного и уравновешенного. Рассказывал он, посмеиваясь над самим собой и над случившимся.
А случай и правда оказался забавным. Знакомый со своим приятелем, человеком дальним, но часто бывающим в этих краях, на машине отправились на Байкал. На одном из подъемов остановились размяться и увидели выемку в камне, где лежали матерчатые полоски, ленты, пуговицы и добрая пригоршня желтых и светлых монет. Приезжий, знакомый с местными обычаями, достал из кармана монетку и бросил в каменную чашу.
– Ну, а ты что не раскошеливаешься? – пошутил он над приятелем.
– А я вообще никому взяток не даю. Принцип у меня такой.
– Смотри, осердится хозяин.
– Это он на вас, пришлых, может рассердиться, а я человек тутошний, местный. У нас с хозяином свои отношения.
– Ну-ну, смотри, тебе жить.
– Обойдется!
– И вот ты знаешь, – рассказывал знакомый, – приключилось такое дело… Случай, вероятность которого столь же велика, как выигрышный билет при шансе один к нескольким миллионам. Представляешь: только мы отъехали от этого жертвенника, двигаясь еще с самой черепашьей скоростью, и стали спускаться под уклон, как у моей машины отвалилось колесо. И машина-то была еще новая. Я остановился. А колесо так под горку и покатилось… Видно, я болты на колесе не затянул. Все это, может, и так… Но, знаешь, что-то у меня в душе сдвинулось, и я потом как-то по-другому взглянул и на все эти горы, и на эти долины, на это небо.
Лахов ел консервированную мешанину под названием «Завтрак туриста» и со снисходительным благодушием находил, что «Завтрак» можно считать вполне съедобным. Легкая дрема растекалась по мышцам, душа настраивалась на лирический лад, но в то же время наползало чувство потери: ехать бы надо, двигаться, а ехать уже нельзя – выпил.
Дед Николай сидел, полуприкрыв глаза, и можно бы было подумать, что он спит, если бы не дымок над трубкой, зажатой остатками зубов. Но стоило Лахову переменить позу, как старик глянул живо, без всякой дремы в глазах. Лахову показалось, что старик заинтересованно посмотрел на бутылку, и, приняв это как предложение налить, придвинул к себе кружки. Но чабан прикрыл свою коричневой рукой.
– Мне нельзя. Тебе можно. Ты молодой.
– Ну тогда и мне не надо, – после легкой внутренней борьбы отказался и Лахов.
– Ты какую работу в городе делаешь? Начальник, поди?
Лахов засмеялся.
– Да нет, не начальник. – Он не любил говорить, особенно случайным людям, о своей работе, по опыту зная, что его тотчас завалят предложениями написать о том-то и о том-то. Но чабану он ответил, хоть и не очень охотно: – В газете.
– Корреспондент, значит? – Лахов почувствовал, что старик гордится знанием такого ученого слова.
– Корреспондент, – подтвердил Лахов, – А ты, дед Николай, газету читаешь?
– Буквы мелкие. Глаза совсем худые стали. Мне внук читает.
– Но ведь еще работаешь. Вон какую отару пасешь.
– Это сын пасет. Я ему помогаю. Вчера сын с невесткой в город уехал. Завтра приедет. – Старик помолчал немного и, явно бодрясь, подтолкнул к Лахову свою кружку. – Маленько, однако, можно выпить.
Лахов почувствовал, что чабан, истосковавшийся о людях в своем степном одиночестве, не хочет дать ослабнуть разговору и готов даже выпить, хоть и без всякого желания, и тем снова остро напомнил соседку по квартире Феклу Михайловну, ее маленькие, открытые миру хитрости, когда старухе хочется человеческого общения, разговоров.
– Ты человек грамотный, ученый. Если я че плохое спрошу, ты на старика не сердись. Голова тоже худой маленько стала.
Лахов понял, что и на этот раз не удалось избежать разговоров о газете, о несправедливостях в жизни, которые почему-то должна устранить газета.
– Ну зачем сердиться? Спрашивай, дед.
– Но да вот, когда реку портят, когда завод грязь там, всякую мазуту сливает, плохо это?
– Что уж тут говорить – плохо. Рыба гибнет, и воду в той речке пить нельзя. Пусть ему министр скажет, чтобы он чистую воду в речку сливал. Разве не послушается?
Лахов задумался, хмыкнул, не зная, что ответить старику, и, чтобы не молчать, сам спросил:
– А вы разве своего директора совхоза всегда слушаетесь? Что он сказал – вы сразу и сделали?
– Но почто ты так? Всяко бывает.
– Ну вот, и я говорю – всяко бывает, – обрадовался найденному ответу Лахов.
– Но да у нас директор, мужик беда серьезный, два раза скажет – третий не услышишь. Совсем выгонит. Другую работу даст. Скажет: головой работать не умеешь – иди работай руками. Разве большой начальник не испугается, если и ему так сказать?
– Пожалуй, испугается. Но не все так просто, дед. Да и министры всякие бывают. Тогда и министров критикуют.
– Опять, значит, критикуют. Зачем зря слова изводить? Критиковать надо, когда человек не понимает. А раз министром стал – значит, голова большая, все знает. Маленький ребенок понимает: чистая речка – это хорошо. Зачем министра держат, если он хуже ребенка?
Чабан все это выговорил тихим неспешным голосом, но акцент стал заметнее, резче, и Лахов почувствовал, что старик сел на уросливого, но любимого конька и пустой разговор, быть может, только набирает силу. Хотя почему пустой? Но Лахов торопливо отмахнулся от этой мысли – не решим же мы все эти проблемы, сидя вот тут на голой сойке, – зная по опыту, что, если дать себе волю задуматься над тем, что говорил старик, тоскливое раздражение поползет в душу и померкнет радость от общения вот с этой бедной, но нетронутой природой.