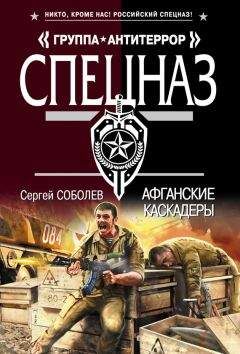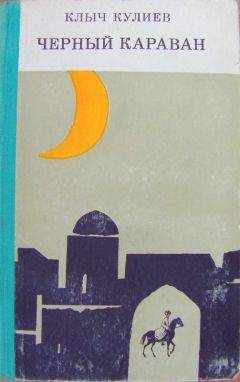Александр Замалеев - Лекции по истории русской философии
Лосев всячески демонстрировал „апофатический момент“ в раскрытии онтологии, настойчиво утверждая, что всякое дальнейшее „диалектическое самоопределение сущности“ приводит ее только к „убыли“, сокращению, „меонизации“, т. е. превращению в „несущее“, „иное“ по отношению к энергийно-сущему. Сущность для него, как для последовательного исихаста-паламита, исполнена иррациональности, и потому познание ее заменялось именованием. На его взгляд, никакая другая философия, кроме философии имени, не заслуживает названия философии.
В воззрениях Лосева, несмотря на всю широту его общекультурных и мировоззренческих устремлений, перевес брал отнюдь не философский, а религиозный, мистический интерес. Лосев слишком кровно сросся с традицией веховского „ренессанса“, и это отразилось на всем его многогранном творчестве.
4. Разрушение марксизма. Расширение сферы влияния русской философии, принимавшее все более явственный характер со времени „хрущевской оттепели“ 60-х годов, не прошло бесследно для официальной идеологии советского периода — марксизма-ленинизма. Она начинала постепенно подвергаться деформации, утрачивая свое прежнее „всесилие“ и монолитность.
Прежде всего это проявилось в том, что в марксистской литературе наметился „возврат“ от идей „зрелого Маркса“ к идеям „раннего Маркса“, в частности, к идеям его „Экономическо-философских рукописей 1844 года“. В них Маркс пытался осмыслить трагизм положения человека в социальной истории. Анализируя на основе фейербахианского антропологизма движение общества от феодализма к капитализму, он пришел к выводу, что главная причина бедственности существования человека — отчуждение его труда. Поскольку труд выражает сущность человека, то отчуждение его от труда, с этой точки зрения, приводило к тому, что труд существовал „вне его, независимо от него, как нечто чужое для него“, словом, становился „противостоящей ему самостоятельной силой“. Именно из отчуждения труда Маркс выводил все прочие формы отчуждения, в том числе и религиозную. Феномен отчуждения принимал универсальный характер, обусловливая извечное противостояние труда и капитала. Впоследствии Маркс отошел от трудовой теории отчуждения, сведя последнее к товарной категории, т. е. фактически к частной собственности. Вопрос о сущности человека утрачивал личностный характер и приобретал чисто социально-классовое измерение. Антропология уступала место политологии, этика — социальной революции. Как писал Ленин, в классическом марксизме от начала до конца нет ни грана этики: „В отношении теоретическом, „этическую точку зрения“ он подчиняет „принципу причинности“, в отношении практическом — он сводит ее к классовой борьбе“». Полное «снятие» всех видов и форм отчуждения связывалось с социалистическими преобразованиями, построением коммунистического общества.
В этой ситуации возврат к «раннему Марксу» знаменовал не только стремление «гуманизировать марксизм», но и критическое отношение к реалиям «зрелого», или «развитого» социализма. Яркое подтверждение тому — творчество Э.В. Ильенкова (1924–1979), одного из наиболее оригинальных и самостоятельных мыслителей-марксистов советского периода. В целом ряде работ, таких как «Гегель и „отчуждение“», «Что же такое личность?», «Космология духа» и проч., он последовательно отстаивал тезис о том, что отчуждение отнюдь не является «локальной», т. е., собственно, капиталистической проблемой, «это, — писал он, — всемирно-историческая проблема, практически еще мировой историей не разрешенная». Она по-прежнему сохраняет всю свою остроту и в социалистических странах, установивших общегосударственную, общенародную форму собственности на средства производства. Для полного и окончательного упразднения отчуждения необходимо превращение «каждого индивида на Земле в высокоразвитого и универсального индивида, ибо только сообщество таких индивидов уже не будет нуждаться во „внешней“ — в „отчужденной“ — форме регламентации его деятельности — в товарно-денежной, в правовой, в государственно-политической и других формах управления людьми». Ильенков ратовал за планетарный подход к человеку, «диалектико-материалистически» сочетая в своих воззрениях космологию и толстовство. Его не удовлетворяла перспектива развития человечества, нарисованная марксизмом, которую он называл «абстрактной, а потому — неверной».
Не меньший интерес представляли теоретические искания другого замечательного советского философа-марксиста В.П. Тугаринова (1898–1978), профессора Ленинградского университета. Для его методологии типичен прием идейно-содержательной локализации марксизма-ленинизма, сведения его исключительно к «науке о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления». В результате открывалась возможность разработки таких проблем, которые не затрагивались марксизмом, но становились насущными благодаря велению времени. К их числу, в частности, относилась аксиологическая проблематика.«…Остается фактом, — писал Тугаринов, — что классическое марксистское наследство не заключает в себе философской, т. е. общей, теории ценностей…». Это порождает «антикоммунистическую легенду», будто «коммунизм… не признает никаких, и в особенности духовных ценностей». Тем самым утрачивается притягательность коммунистического идеала. Для преодоления подобных «заблуждений» одного «комментирования положений классиков марксизма» явно недостаточно; необходимо всестороннее творческое обновление «научного мировоззрения». Здесь Тугаринов особенное значение придавал не только аксиологии, но и антропологии, которая, на его взгляд, должна была занять центральное положение в философии марксизма.
В 70-80-е годы критическое отношение к официальному марксизму-ленинизму принимает по существу необратимый характер. Он все более и более сдает свои позиции под напором пробуждающегося национального самосознания. СССР завершал свое семидесятилетнее существование. Время псевдоинтернациональных деклараций кануло в Лету: начинался новый виток развития русской самобытной философии.
Литератураа) Источники
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.
Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник 1984–1985. М., 1986.
Вернадский В.И. Очерки по истории современного научного мировоззрения // Вернадский В.И. Избр. труды по истории науки. М., 1981.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991.
Ильенков Э.В. Гегель и «отчуждение»; О «сущности человека» и «гуманизме» в понимании Адама Шаффа; Что же такое личность?; Космология духа // Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие — имя — космос. М., 1993.
Лосев А.Ф. Диалектика имени // Контекст-1992. Литературно-критические исследования. М., 1993.
Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме; Марксистская теория личности на современном этапе // Избр. филос. труды. Л, 1980.
Ухтомский А.А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров; Инстинкт и доминанта; Доминанта и интегральный образ; Доминанта как фактор поведения // Избр. труды. Л., 1978.
Циолковский К.Э. Живая Вселенная // Вопросы философии. 1992.
Циолковский К.Э. Причина космоса; Научная этика; Монизм Вселенной // Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной. М., 1992.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Споры о возможностях и будущности русской философии разрешаются простым фактом ее исторического существования. Она еще менее всего может считаться целостной, завершенной. В ней больше задатков, нежели свершений, больше упований и надежд, нежели систематизированных уроков. Она еще не отлилась в специфическую форму, еще нет тех мехов, в которых можно было бы хранить и настаивать вино истинного отечественного любомудрия.
Во-первых, русская философия литературоцентрична. Как писал А.Ф. Лосев, «художественная литература является кладезем самобытной русской философии». Вместе с тем совершенно очевидно, что это не просто жанровый момент; за ним стоит соответствующая логико-дискурсивная тенденция, которая в отличие от аристотелевской, рационалистической, ориентирована преимущественно на символизм, аллегорезу, неотделима от чувственно-эмпирических трансформаций. В этом смысле «самобытная русская философия» остается в пределах сенсуализма, ей предстоит совершить поистине героическое усилие, чтобы преодолеть идущий от славянофильства (точнее, от Нила Сорского и старообрядцев) страх рационализма.
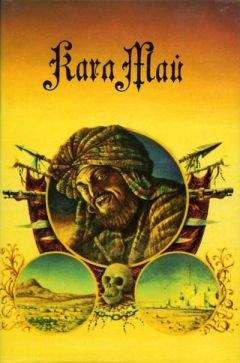
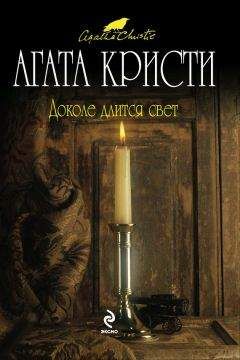
![Александр Конторович - Пепельные люди [СИ]](/uploads/posts/books/100439/100439.jpg)