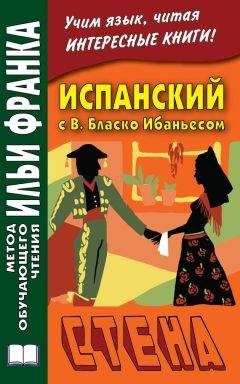Висенте Бласко-Ибаньес - Майский цветок
Итакъ, синья Тона жила совсѣмъ одиноко. Ректоръ постоянно бывалъ на морѣ, охотясь за песетами, какъ онъ говорилъ, то ловя рыбу, то нанимаясь матросомъ на одну изъ габаръ [6] , ходящихъ за солью въ Торревьеху; Антоніо бѣгалъ по харчевнямъ или просиживалъ у дяди Паэльи, у котораго только что не поселился. Такъ она близилась къ старости за прилавкомъ своего кабачка, имѣя около себя лишь одну свою дочь, къ которой питала странную, какую-то непостоянную любовь: эта дѣвочка была живымъ портретомъ Мартинеса… «Далъ бы Богъ, чтобы чортъ побралъ этого мошенника!»
Рѣшительно оказывалось, что Богъ печется о честныхъ людяхъ далеко не всегда. Дѣла шли значительно хуже, чѣмъ въ первое время ея вдовства. Другія старыя лодки, выброшенныя на песокъ, были обращены въ харчевни, и теперь рыбакамъ предоставлялся выборъ. Кромѣ того, она дурнѣла, и морякамъ уже не такъ хотѣлось пить, ухаживая за нею.
Результатъ: хотя трактирчикъ удержалъ за собою своихъ старыхъ завсегдатаевъ, онъ приносилъ не болѣе того, что было необходимо для жизни. Нерѣдко, глядя издали на свою бѣлую лачужку, Тона съ печалью убѣждалась, что огонь погасъ, изгородь почти обвалилась, что за плетнемъ нѣтъ свиньи, которая бы хрюкала въ ожиданіи ежегодной казни, и что по пустынному взморью грустно бродитъ не болѣе полудюжины куръ.
Время шло для нея однообразно и медленно; изъ мрачной полудремоты ее выводили только выходки Антоніо или созерцаніе портрета синьора Мартинеса въ мундирѣ, который она оставила на стѣнѣ своей каюты изъ какой-то утонченной жестокости, какъ бы въ напоминаніе себѣ самой о своей минувшей слабости.
Маленькая Росета, эта дѣвочка, попавшая въ лодку по милости и благодаря стараніямъ плутоватаго стражника, не могла похвалиться большимъ вниманіемъ со стороны матери. Она росла на свободѣ, точно дикій звѣрокъ. Днемъ ее можно было видѣть лишь въ тѣ часы, когда голодъ приводилъ ее домой; а съ наступленіемъ ночи Тонѣ часто приходилось отправляться ее разыскивать и потомъ, хорошенько выпоровши, запирать въ лодкѣ. «Должно покоряться волѣ Божьей; но въ этой сопливкѣ посланъ новый крестъ ея бѣдной матери!» Росета была дика и любила одиночество; она валялась на мокромъ пескѣ, а то собирала раковины и улитокъ или сгребала водоросли въ кучи. Порою она цѣлыми часами не двигалась, устремивши въ пространство пристальный и расплывчатый взглядъ, какой бываетъ у находящихся въ гипнозѣ, между тѣмъ, какъ соленый морской вѣтеръ трепалъ ея бѣлокурую гриву и раздувалъ старую юбку, обнажая худенькія ножки ослѣпительной бѣлизны, лишь на ступняхъ темно-красныя отъ солнечнаго зноя. Она лежала такъ часъ за часомъ, утопая животомъ во влажномъ пескѣ, который уступалъ ея вѣсу, между тѣмъ какъ лицо ей лизаль тонкій слой воды, то приближавшійся, то отступавшій по блестящему взморью.
Въ ней была неисправима страсть къ бродяжничеству, и Тона справедливо отзывалась о ней такъ: «Яблоко отъ яблоньки недалеко падаетъ». Ея мошенникъ-отецъ тоже просиживалъ цѣлыми часами, по-дурацки таращась на горизонтъ и видя сны съ открытыми глазами; ни на что другое онъ не годился. Если бы матери понадобилось жить трудами дочери, то ей скоро пришлось бы протянуть ноги. Бездѣльница, праздношатайка! Въ кабачкѣ она била стаканы и тарелки, какъ скоро принималась ихъ мыть; рыба сгорала на сковородкѣ, когда дѣвочку оставляли смотрѣть за жаровней. Словомъ, съ ней ничего не оставалось дѣлать, какъ предоставлять ей бѣгать по берегу или посылать ее въ Кабаньяльскую школу. Временами на дѣвочку нападало безумное желаніе учиться и, рискуя быть побитой, она вырывалась изъ дому, чтобы бѣжать къ учительницѣ; но нѣсколько дней спустя, какъ скоро мать оказывалась расположенной разрѣшить ей это, она убѣгала изъ школы.
Только лѣтомъ бѣдная Тона видѣла отъ нея кое-какую помощь. Тогда желаніе заработать соединялось съ любовью къ бродяжничеству и, захвативъ кувшинъ такого же роста, какъ она сама, Росета ходила со стаканомъ въ рукѣ по взморью купальщиковъ, смѣло пробиралась между роскошными экипажами, ѣхавшими на молъ, смотрѣла во всѣ стороны своими мечтательными глазами, потряхивала бѣлокурою гривою и кричала пронзительнымъ голосомъ: «Воды, воды холодной!» Въ другіе дни она такъ ходила съ корзиною пирожковъ: «Соленые и сладкіе!» При помощи этой маленькой торговли, Росетѣ удавалось по вечерамъ вручать матери по два и по три реала, что нѣсколько проясняло хмурую физіономію Тоны, которая отъ дурного положенія дѣлъ стала эгоистичной.
Такъ выросла Росета въ суровомъ уединеніи, съ пугающимъ равнодушіемъ принимая колотушки матери, ненавидя Антоніо, который никогда не дарилъ ее вниманіемъ, улыбаясь по временамъ Ректору, который, когда попадалъ на берегъ, имѣлъ обыкновеніе дружески дергать ее за спутанныя космы, и презирая береговыхъ озорниковъ, отъ которыхъ она сторонилась съ гордымъ видомъ маленькой царицы.
Въ концѣ концовъ, Тона совсѣмъ перестала заниматься дѣвочкой, хотя та одна просиживапа съ нею зимніе вечера въ ея пустомъ жилищѣ. Напротивъ того, Антоніо и дочка тартанеро были ея постоянною заботою. Эта мерзавка, видно, задумала отнять у нея всю ея семью; она уже не довольствовалась Аніоніо, а приманила къ себѣ и Ректора. Послѣдній, по выходѣ на берегъ, пролеталъ по материнскому кабачку, точно облачко, послѣ чего, уведенный братомъ, отправлялся отдыхать къ тартанеро, гдѣ его присутствіе ничуть не стѣсняло влюбленныхъ.
Въ сущности, Тону раздражало не столько вліяніе, какое Долоресъ пріобрѣла на ея сыновей, сколько крушеніе одного проекта, съ которымъ она носилась уже давно. Она мечтала женить Антоніо на Росаріи, дочери своей старинной пріятельницы. По красотѣ эту дѣвушку нельзя было сравнивать съ дочерью тартанеро, но синья Тона была неистощима въ похвалахъ ея добротѣ, – свойству существъ незначительныхъ. Одного она вслухъ не говорила, хотя въ этомъ заключалось главное: именно, что Росарія, дочь ея выбора, была сирота; родители же ея держали въ Кабаньялѣ лавочку, гдѣ Тона дѣлала закупки, и теперь, послѣ ихъ смерти, ихъ единственной наслѣдницѣ досталось почти богатство, – не менѣе трехъ или четырехъ тысячъ дуро.
А какъ бѣдная малютка любила Антоніо! При встрѣчахъ съ нимъ на улицахъ Кабаньяля она всегда кланялась ему съ видомъ покорной овечки и просиживала подолгу на взморьѣ, представляя себѣ удовольствіе бесѣдовать съ синьею Тоною только потому, что та приходилась матерью смѣлому парню, будоражившему весь берегъ.
Но отъ этого мальчишки нечего было ждать добра. Сама Долоресъ, при всемъ вліяніи, какое на него имѣла, не въ состояніи была удержать его, когда на него нападала дурь. Тогда онъ пропадалъ по цѣлымъ недѣлямъ, а впослѣдствіи доходили слухи, что онъ пробылъ все время въ Валенсіи и тамъ днемъ спалъ гдѣ-нибудь въ скверномъ вертепѣ на Рыбацкой улицѣ, а ночью напивался, колотилъ робкихъ участницъ своихъ кутежей и, точно изголодавшійся пиратъ, растрачивалъ на оргіи то, что выигралъ въ какомъ-нибудь подозрительномъ притонѣ.
Во время одной изъ этихъ отлучекъ онъ совершилъ проступокъ, стоившій матери мѣсяца слезъ и безконечныхъ сѣтованій; вмѣстѣ съ нѣсколькими пріятелями онъ поступилъ въ военный флотъ. Этимъ повѣсамъ надоѣло жить въ Кабаньялѣ, и вино мѣстныхъ кабаковъ стало казаться прѣснымъ.
Итакъ, насталъ день, когда этоть чертовскій парень, весь въ синемъ, въ бѣлой шапочкѣ набекрень и съ мѣшкомъ за спиною, разстался съ матерью и съ Долоресъ, чтобы отправиться въ гавань Картагену, гдѣ стоялъ корабль, на который онъ былъ назначенъ.
«Съ Богомъ!» Синья Тона очень любила его, но по крайней мѣрѣ теперь могла быть спокойной. Всего грустнѣе ей было смотрѣть на бѣдную Росарію, которая, всегда молчаливая и кроткая, приходила на взморье шить вмѣстѣ съ Росетой и съ робкимъ волненіемъ спрашивала у синьи Тоны, не получила ли та письма отъ моряка.
Всѣ три женщины мысленно слѣдили за своимъ Антоніо, этимъ несравненнымъ матросомъ, на всѣхъ путяхъ и рейсахъ «Города Мадрида», фрегата, на которомъ онъ отплылъ. Какъ онѣ волновались, когда на влажныя доски прилавка падалъ узенькій конвертъ, запечатанный то красной облаткой, то хлѣбнымъ мякишемъ и украшенный слѣдующимъ сложнымъ адресомъ, выведеннымъ крупными буквами: «Госпожѣ Тонѣ, въ трактирѣ, рядомъ съ Бычьимъ Дворомъ». Отъ этихъ грубыхъ конвертовъ, казалось, шелъ какой-то особый заморскій запахъ, говорившій о тропической растительности, о бурныхъ моряхъ, о берегахъ, повитыхъ розоватымъ туманомъ и о сверкающихъ небесахъ; читая и перечитывая четыре страницы, женщины мечтали о невѣдомыхъ странахъ, воображая себѣ негровъ въ Гаваннѣ, китайцевъ на Филиппинскихъ островахъ и новые города южной Америки.