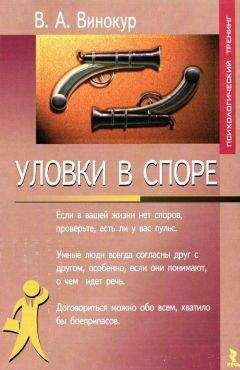Свободин А.П. - Зримое время
Услышав эту музыку, Иван Тимофеевич расцветает — пошли формулы, речь для него обрела смысл. Но дальше — больше. Прудентов уже задает следующий вопрос о том, какая из двух ныне действующих систем образования, классическая или реальная, для юношества наиболее полезна и с обстоятельствами настоящего времени сходственна? Глумов, поняв, что он оседлал коня, перекрывая раздумчивое мычание своего партнера, переходит в наступление и чеканит:
— Откровенно признаюсь вам, господа, что я даже не понимаю вашего вопроса, — проницательно смотрит он на экзаменаторов. Герой Гафта слегка издевается, понимая, что уже может себе это позволить: — Нехорошо, господа, на ответственных постах сидите, а о двух системах заговорили, нехорошо. Мне штатскому, вас учить приходится!
"— Никаких я двух систем образования не знаю"...
Щедрин, а вслед за ним и актер ударяют на слове "двух". " — ... А знаю только одну!".
То есть ту, как можно уже догадаться, которая воспоследует в результате начальственных предписаний.
И снова музыка знакомого лексикона затопляет сердце Ивана Тимофеевича. "Мой, мой язык!" — молчаливо радуется он. Вот он, пароль благонадежности! Киплинговский Маугли, встречаясь с незнакомыми зверями, как известно, произносил заветное слово, после которого звери его не трогали. "Мы одной крови, ты и я", — означало оно. То же самое означают здесь формулы Глумова. "Свой", узнаю "своего"! — ликует Иван Тимофеевич, — по языку, по способу мышления, по приверженности к "одному", по ненависти ко всяким "множествам", по родной мне высокой ограниченности, по простоте, по здоровью, наконец. И в восторге от того, что не ошибся в них, не в силах сдержать чувств, Иван Тимофеевич кричит: браво!
Итак, все прощено: и недавняя их подозрительная тихость, и давние громкие восторги по поводу "преобразований".
— Пардон общий! — возглашает глава Квартала, выйдя на середину. Они приняты, допущены! Глумовский приятель, недавний энтузиаст, хочет даже в знак благодарности по-собачьи лизнуть Ивана Тимофеевича, не подозревая, что его ждут новые испытания. Глумов, как "интеллектуальная" часть дуэта недавних либералов будет употреблен по письменной части, ему доверят разработку "Устава благопристойности". Его друг, выказавший слабину, подготовляется Иваном Тимофеевичем к "делишкам", без которых, как мы уже имели случай заметить, не может быть закончено возведение здания совершенной благопристойности.
(И снова Щедрин верен реальностям общественного быта 80-х годов. Всякого рода законодательные "проекты", различные "предположения" о возможности неких комиссий, куда позволено будет даже выбрать заранее для того назначенных представителей дворянства и прочее в том же роде, вызывали язвительный скепсис великого сатирика. Кроме упрочения абсолютной власти, эти плоды кабинетной мысли Двора ничего не несли, хотя весьма солидное число либералов и полагало, что с этих-то "комиссий" и начнется "демократическая эпоха". Обрисовывая в "Современной идиллии" всякого рода "делишки", Щедрин отмечал и повсеместное "породнение" административного аппарата с капиталом. Купец Парамонов становился, так сказать, теневым хозяином Квартала. Щедрин заметил и неписаное, но твердо укоренившееся правило: для всех звеньев охранительной сети империи принадлежность к делишкам все более служила гарантией от политических заблуждений. Читатель помнит цитированные нами вначале "донесения" из фондов охранки. В страхе перед малейшим политическим протестом государство как бы молчаливо предпочитало уголовников, полагая их "занятия" своеобразным аттестатом политической благонадежности. Короче говоря, разворовывание государства царизм предпочитал его малейшему преобразованию. Вот откуда формула, провозглашаемая героями "Современной идиллии" вышедшими на "стезю благонамеренности": "Да защитит нас кодекс уголовный от притязаний кодекса уголовно-политического!")
Следующая за всем этим часть спектакля драматургически менее цельна. Деятельная благонамеренность представлена в виде сцен, то фарсовых, то буффонных и изображает собой вольное шествие героев по ту сторону от "черты подозрений".
Но и здесь есть свои горести. Желая потрафить Ануфрию Петровичу Парамонову, благодетелю и миллионщику Иван Тимофеевич между делами по Кварталу устраивает фиктивный брак "парамоновской штучке" Фаинушке. По его раскладке роль фиктивного супруга должен сыграть глумовский друг-приятель. На него легче нажать. Причем у Ивана Тимофеевича так хорошо все получается, что и эти "делишки" в его устах выглядят делами государственными. И если "звездный час" Глумова был в сцене испытания мыслей, то "рубикон" его друга настал здесь, сейчас.
Понимая, к какой роли его готовят, он хочет возразить, но не может. Его удерживает привычная сила социального подчинения, он не может, физически не может, возразить начальству. Порывается, вот-вот возразит и... не может. Он призывает (разумеется, про себя) громы небесные на голову Ивана Тимофеевича. Он тонет, не знает, что делать, за что схватиться, вот сейчас, вот сейчас его не станет... Оказывается, до этого в душе своей он еще "был". Он даже не подозревал, что "это" в нем еще жило. Последний танец сопротивления либерала, последняя попытка сохранить микроскопическую частицу достоинства: "Вокруг налоя меня не поведут! Нет, не поведут!" Он просит, лижет, он пропадает. Если раньше Игорь Кваша играл процесс обесчеловечивания своего героя, то здесь он играет, если можно так сказать, "особачивание" человека. (Вспомним вторую, условно-театральную систему типов спектакля).
Начинается апогей отчаяния либерала, спасающего призрачное "нечто". Актер откровенно и блистательно играет собачонку, прыгающую на задних лапках вокруг хозяина и выпрашивающую у него кусок. Этот сумасшедший собачий танец он сопровождает огромным монологом, долженствующим подавить нервическим словоизвержением всякую попытку начальства возражать. Он знает, что если даже на секунду прервет этот словесный ураган, начальство может опомниться. В жутком страхе от того, что он наделал, и не в силах остановиться перед другим страхом — возмездия, он прыгает и говорит, прыгает и говорит, прыгает и говорит... Верноподданнический катарсис! Жутковатая картина распада личности.
Среди сильных образов, созданных актером в последние годы, эта сцена — выдающийся образец искусства.
И вот после этого-то эпизода лидерство в спектакле перехватывает Балалайкин — Олег Табаков, превращая на некоторое время всех остальных и в самом деле в "и К°", как это и сказано в названии.
Балалайкин взращен Кварталом.
Балалайкин — его абсолютная свобода! Известно, всякое безобразие должно свое приличие иметь! Балалайкин — безобразие, лишенное приличия. Вернее, и приличие превративший в безобразие. С пеленок вла- дея "кодексом благопристойности", он делает с ним, что хочет. Дабы показать свою виртуозность ("все могу!") он даже "политику" себе припишет для красного словца, для объемности автопортрета. А коли его в измене отечеству уличат, он тут же эту "политику" так повернет, что и измена на пользу отечеству обратится.
Табаков играет в откровенно импровизационной манере. Как актер он также демонстрирует, что может все. В своей буффонаде он проходит по грани возможного в театре. Его выручает неиссякаемое сценическое обаяние. Порой это буффонада изысканная, порой — грубая, с отрыжкой, сыплющимися крошками и таким каскадом приемов, что и описать невозможно.
Табакову доступна клоунада на пуантах — это и есть тот стиль, который представляет нам Балалайкина в принятой системе ценностей. Но высшего соответствия образу актер достигает тогда, когда его героя становится даже немного жалко. Например, когда Балалайкин, разоблаченный в том, что женат, с горечью вспоминает о восьми своих дочерях, когда Балалайкина ведут за шиворот к свадебному столу.
В этом представлении есть сцены, изначально предназначенные для импровизации. Например, "Приемная" и "Обед" у Балалайкина. И Олег Табаков с его фейерверком импровизаций действительно становится в этот момент главным действующим лицом. Однако замысел спектакля требует, чтобы эти эпизоды не заслоняли в памяти зрителей впечатления от первой части, от начального дуэта двух героев.
Первая и вторая части различны по жанру. Первая, если можно так сказать, "интеллектуальная", драма, некое "горе от ума". Вторая — откровенный фарс. Очень важно не нарушить гармонию частей. Когда это удается, щедринский спектакль "Современника", проходит с огромным успехом.
Представление завершается каскадом фантомов.
В приемной Балалайкина появится Очищенный (А.Вокач), полуводевильный-полудраматический персонаж, бывший тапер из заведения Дарьи Семеновны. Его функция — подчеркнуть нечистоплотность, тошнотворность "деятельной благопристойности". Он преуспевает в этой своей функции, вызвав "крик души" Глумова: "Воняет!" Но один раз, словно внезапно перейдя в лагерь автора, Очищенный даст серьезную и трагическую характеристику всего этого бытия... А в доме Фаинушки нас ждет ее метрдотель и фаворит "странствующий полководец" Редедя, тип, приближающийся к абсурдному началу представления, законченный в своем роде образ. А.Мягков создает почти цирковой этюд. Если продолжить сравнение с цирком — это "рыжий" спектакля. Его, как и Очищенного, не следует впрямую сравнивать с Редедей романа. Там в этом образе Щедриным развернуто сатирическое изображение так называемой "восточной политики" русского царизма. В спектакле Редеде отведена роль некоего комического монстра петербургских гостиных. Пластическое мастерство Андрея Мягкова в этой роли отменно.