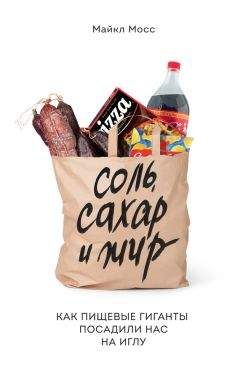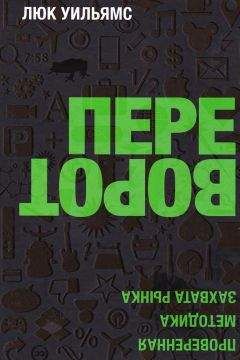Олег Ждан - Белорусцы
А Иван Грамотин между тем гнул свое:
— Бывали мы и не один раз в Литве. Знаем, как тщательно оберегают честь вашего короля: обращаются к нему, только сняв шапки. Так же вы у нас должны поступать. Здесь, у нашего великого государя, его царского величества, бывали послы царя Римского, Турецкого... Немецкие, английские, персидские и иных окрестных держав государи. Они всегда снимали шапки, обращаясь к его царскому величеству. Да и твой отец, Казимир Львович, не единожды бывал здесь послом и пред прежними царями, блаженной памяти, шапки на голову никогда не клал. Он-то хорошо знал, как нужно справлять посольство. Никто такого бесчестия нашим государям не чинил.
— Нигде не указано, что послы польского короля, отправляя посольство, должны снимать шапки, — твердо заявил пан Песочинский. — Не впервой мне быть послом и к другим монархам, равным царскому величеству. Нигде мы не снимали шапок.
Похоже, что Иван Грамотин растерялся. Он подошел к царю, пошептался с ним и, судя по лицу Михаила Федоровича, государь был недоволен. Грамотин опять обратился к послам.
— Вы, великие послы, если приехали на добро, так делайте так, как в Московском государстве ведется.
Однако пан Песочинский тоже стоял на своем.
— Мы видим, что здесь все сидят и стоят в шапках. Почему мы должны снять их? Будь бояре с непокрытыми головами, и мы бы сняли шапки.
— А мы ваши речи и слушать не станем, если не снимите.
— Что ж, — сказал Песочинский, — если вы не желаете выслушивать наши речи, мы, объявляя свое почтение Богу, царю небесному, а затем и его царскому величеству, отъедем в свое отечество. Не нашего короля и не наша вина будет в том, что разорвется доброе дело, хорошо и счастливо начатое.
Опять Иван Грамотин оказался в сложном положении и снова отправился к своему царю. Снова, но уже не так настойчиво, потребовал снять шапки. Но послы заявили:
— Не пристало нашему народу слушать пустые слова и бессмыслицу.
— Ладно, — сказал Грамотин. — Говорите. Но и мы в следующий раз будем поступать так перед вашим королем!
Целовать ли руку?
Пан Песочинский начал свою речь тотчас — в шапке, но если поминалось имя царя или короля, мы головы обнажали. Похоже, это понравилось всем: и царю, и думным боярам. Они как бы раз за разом получали подтверждение чести царя.
— По воле и благословению Господа Бога, в руках которого и мир, и война... послы при встрече на реке Поляновке... наступило время вечной дружбы между вами, великими господарями... Его милость король прислал нас сюда... довести до конца начатое доброе и великое дело... Пусть Господь Бог благословит и соединит ваши сердца, великих господарей... покроет бессмертной славой... Пусть... Пусть... Пусть...
Весьма торжественно закончил он свою речь. Наступил черед Казимира Сапеги.
Не стану снова приводить начало его речи, в течение которой мы стояли без шапок, тем более, что новых слов в его речи было не много. Однако были и важные:
— ...Наш король жаждет остановить кровопролитие... установить братские отношения... — и, наконец, главное: — Ради надежного согласия и дружбы он согласен на уступки, ограничение владений, которыми Господь Бог вознаградил его.
Пришлось говорить и мне, как писарю великого посольства.
— Вам бы, великому государю и великому князю Михаилу Федоровичу, всея Руси самодержцу, повелеть боярам своим с панами королевского величества, великими послами договориться о тех статьях, которые раньше были отложены, и доложить вам, великим государям. А договорившись, велеть бы свою господарскую запись в заключительную грамоту от слова до слова вписать. И то, о чем теперь договоримся, приписать, печать приложить и своим целованием перед нами, великими послами, укрепить. И по тому, как в окончательных записях написано есть, пусть будет исполнено.
Кажется мне, что никого бояре и сам государь не слушали так внимательно, как меня.
Совершив посольство, все мы пошли к царской руке. Пан Песочинский при этом передал грамоту от короля. Михаил Федорович в этот момент держал, как обычно, скипетр в правой руке. Но левой рукой брать грамоту царю никак не пристало, и пришлось ему переложить скипетр, освободить правую. Целовал ли пан Песочинский руку царя, я не заметил, а вот пан Казимир Сапега точно не целовал, только приложился челом.
— Не по обычаю подходишь к царскому величеству! — тотчас заявил Грамотин.
На это пан Казимир, усмехнувшись, ответил:
— Достоин ли я целовать руку такому великому монарху?
Недобро сверкнули у печатника глаза, но — промолчал. Счастье, что на троне сидел Михаил Федорович, а не Иван Васильевич. Рассказывают, тот внимательно следил за этим обрядом и не приведи господи, если кто-то вместо поцелуя тыкался в руку носом.
Затем Грамотин пригласил меня, и, чтобы не вызвать новых споров, я царскую руку поцеловал, я не так независим и смел, как пан Казимир. Целовали и другие члены нашего посольства. Грамотин аж пригибался, чтобы лучше видеть: целуем или нет. Надо сказать, что рука у Михаила Федоровича плотная, сильная. Молод он, нет ему еще и сорока лет.
Затем перешли к подаркам, которые мы так осторожно везли и тщательно хранили, ради которых шло с нами столько венгерских драгун и вооруженных шляхтичей. Часть подарков уже внесли в сени, часть оставалась на подворье. Озвучивал дарение по списку, опять же, Иван Грамотин — красиво, надо сказать, голос у него был — иерихонская труба.
— Великому государю, его царскому величеству посол Александр Песочинский челом бьет: конь гнедой турецкий из краманских лошадей; сабля рубинами и бирюзой украшенная; камень рубиновый; часы из золота и хрусталя; медный таз австрийской работы с наливачкой для умывания; золотистый австрийский кубок.
Заметно было, что Михаилу Федоровичу небезразличны слова печатника, интересно ему, что привезли великие послы. Понятно было также, что подарки Песочинского понравились, особенно конь турецкий, сабля, часы...
да и медный таз с наливачкой. Но и немного был разочарован царь: маловато. Затем Грамотин объявил подарки пана Сапеги, и тут уж Михаил Федорович был вознагражден: карета в красном бархате, обитая золотом и серебром; к той карете — шесть замечательных гнедых коней. Упряжь бархатная красная, серебряно-вызолоченая, камень алмазный, большие часы с изображением воскресения Христова и механизмом внутри, который сам играет, а еще и часы с боем.
Я, писарь великого посольства, мстиславский стольник, не могу сравняться с панами Песочинским и Сапегой, однако три турецких коня, за которые я отдал все деньги, которые у меня были, со всей упряжью, украшенные дорогими каменьями и рубинами, с гусарскими седлами-ярчаками, бархатными попонами, расшитыми золотом, тоже произвели впечатление на Михаила Федоровича. Но честно признаюсь: не ради московского царя я приобрел этих коней, а единственно ради панночки Анны, то есть в расчете на то, что услышит она доброе слово обо мне, узнает что-то еще, кроме моего несчастного существования.
Пан Модаленский, мстиславский войский, подарил царю гнедого коня неаполитанской породы с гусарским снаряжением. Большего он себе не мог позволить. Пан Цехановецкий, мстиславский подстольничий, тоже подарил верховую лошадь, пару пистолетов в пальмовой оправе, кобуру из зеленого бархата к ним, разукрашенную золотом. Затем дарили другие участники посольства: пан Кретовский, пан Цеханович, пан Масальский, пан Третинский, пан Галимский и другие. Всего было четырнадцать дарителей, и конечно, чем ближе к концу списка, тем подарки становились скромнее. Например, Пестрецкий, старший слуга воеводича, подарил просто саблю, правда, украшенную каменьями, да и ту, я думаю, ему перед тем передал для подарка пан Казимир Сапега. Теперь все были довольны и веселы, как будто и не было спора о шапках. Разве что пан Казимир Сапега был не в духе. Что-то его заботило.
Все я приготовил и предусмотрел, но записывать пришлось так много, что перья стали заканчиваться. Я обратился к нашему целовальнику, и уже на другой день мужики принесли добрую дюжину гусиных крыльев. Ну, гуси что в Москве, что в Вильне; очинка у меня острая, и задача только в том, чтобы сделать правильный ощеп и желобок, а в этом я поднаторел. Минута — и перо готово. Сам любуюсь его правильностью и красотой.
«Жалует вас обедом и чашей вина...»
Жили мы на посольском дворе, в тех дворцах и хатах — а по-русски говоря, избах, — которые построили давно, специально для великих послов, в которых останавливался и отец нашего пана Казимира Лев Сапега. Правда, поскольку наше посольство оказалось более многолюдным, пришлось поставить еще три избы и две большие конюшни. Дома были просторные, но комнат и топчанов мало, и челядь наша спала вповалку. Правда, многие пошли жить к московитам, которые оказались очень любопытны и в первый же день пришли к воротам звать к себе постояльцев. Денег они не просили, но и не отказывались, если предложить.