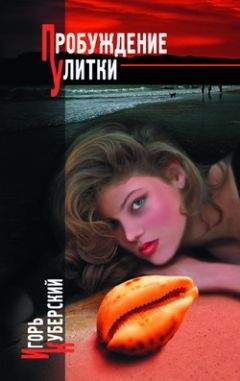Неизвестно - zolotussky zoil
Я не верю в интеллигенцию, я верю в отдельных людей — писал Чехов. Этих отдельных людей почти не было в заказной литературе. Они стали появляться в шестидесятые-семидесятые годы — бабы Ф. Абрамова, чудики В. Шукшина, Кузькин Б. Можаева, Иван Африканович В. Белова, герои В. Астафьева и В. Распутина, рефлектеры Ю. Трифонова. Но они все еще оттесняются деятелями, «положительными героями», какими-то функционерами. С расцветом «политического романа» на страницы прозы хлынули дипломаты, генералы КГБ, политические обозреватели, чины МИДа, генштабисты и члены Политбюро, Сталин и Молотов, Сталин и Гитлер. Теперь — в связи с переменой декораций — их дублируют Сталин и Киров, Сталин и Орджоникидзе, а завтра появятся Бухарин и Каменев, Зиновьев и Рыков (впрочем, в пьесах М. Шатрова они уже появились).
А где же традиционный русский герой — герой-идеалист? Где искание смысла жизни? Где смерть и бессмертие? Бог и черт?
У государственной литературы (а литература, которую представляют «Дети Арбата», тоже государственная, но, так сказать, в прогрессивном смысле) нет духовной альтернативы, ее идеал конкретен, социален, он заимствован из арсенала политики, а не из сферы духа.
Возьмите «идейных людей» литературы наших дней и идейных людей того же А. Платонова. У Платонова это заложники идеи, мученики идеи, они, как странствующие рыцари, поклялись служить только одной даме, и эта дама — Революция. Они даже не знают, что это такое, не разбираются в политграмоте, а большинство из них вообще не умеет читать, но искра идеи запала в их ум, произвела там такое движение, что ни ум, ни сердце не могут спать, они должны постоянно находиться в действии, боясь упустить наступление коммунизма.
Герои Платонова, как все русские мечтатели, буквально сохнут по «раю» обетованному, но «рай» не грядет, грядет нечто такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать — раскрывается преисподняя, и они проваливаются в нее, так и не испытав страха гибели.
Для пролетариата бог — движение, говорит один из героев «Котлована», все остальное ничто. Движение абсолютизируется, ставится над человеком, над его чувствами, над теплом ласки, теплом любви. Все, что попадается на пути этого безумного движения, сметается, отбрасывается. Нужно уничтожить весь Чевенгур для того, чтобы одиннадцать большевиков ощутили наступивший в нем коммунизм, — уничтожим. Сначала «полубуржуев» (буржуи давно истреблены), а потом и их родственников выведем на площадь или в степь и расстреляем из наганов и пулемета.
Критика идеи насилия как идеи прогресса — вот что на сегодня составляет нерв нашей независимой литературы. С этого она начала в двадцатые годы, к этому вновь и пришла. И здесь ее отрицания и утверждения смыкаются с русской классикой. И та мечтала о «рае», помышляла о «рае». Не кто иной, как Павел Иванович Чичиков тоже забрасывал удочку в этот «рай», мысля его как торжество дома и семьи под полуденным небом российского юга. Как мы помним, он хотел своих мертвых крестьян переселить в Херсонскую губернию.
«Рай» обетованный — мечта Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова. В исканиях русской литературы видно желание низвести божественную идею на землю, реализовать ее в пределах смертной жизни человека. С этой мечтой рождаются и герои
Платонова. Ко вместо «рая» они обретают «ад». Идея насилия отравляет их кровь, и эта отрава вливается и в кровь детей. Те в свою очередь мучаются, чтобы исторгнуть ее из себя, и тратят на это жизнь, истощаются в этой борьбе. Идея насилия калечит человека, увечит его природу: он шкуру собственного отца готов натянуть на барабан, лишь бы этот барабан выбивал дробь революции.
Литература невольно возвращается к старым ценностям и к старой символике, обозначающей эти ценности. Евангельская символика воскресает и в рассказах В. Астафьева, и в романе Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Ю. Домбровский на свой лад, в отличие от Булгакова, разыгрывает сцены предательства и осуждения Христа, рассматривая этот сюжет с точки зрения права и правосудия. «Падающая ирония гибели», как писал А. Платонов, соединяется в этой литературе с возвышающей интонацией веры уже не в абстракции, не в догматы, не в саддукейство и фарисейство, а в то, что человек есть мера всех идей и теорий, и если хоть один пункт их отклоняется от этой истины, им уготована судьба города Чевенгура.
Чевенгурцы сделали солнце своим Богом, его материальный свет приняв за духовное откровение. Но солнце, этот «мертвец с пылающим лицом», по выражению А. Фета, не способно заменить отсутствие Бога. В этом городе не осталось не только детей, но и воробьев и собак.
Вернуть жизни жизнь, вернуть душе свет, идеалам — тепло человека — вот что желает сегодня литература, чьи свободные легкие уже не сжимаются от притока воздуха, уже начинают дышать в полную силу.
1988 г.
СМЕХ ГОГОЛЯ
СОБОР И «ВЕРТЕП»
Никто еще не отгадал загадки Гоголя. Эта загадка не выдумана, не придумана. Она существует. Гоголь, как на памятнике работы Н. Андреева, то отдаляется от нас, то приближается, точней, то отдаляет, то приближает нас к себе его взгляд, его улыбка. Они странны, неопределенны. Они направлены на зрителя и, вместе с тем, уклончивы. Гоголь как бы зовет, подзывает, а когда подходишь, отводит глаза.
То же и смех Гоголя. С одной стороны, Гоголь смеется над глупым, смешным и страшным — да, и над страшным, например, над смертью, — с другой стороны, его смех полон печали: то печаль несоответствия между «мечтой» и «существенностью».
Смех Гоголя ощущает это несоответствие как комическое противоречие жизни и одновременно как боль. Рана открыта, кровоточит: отсюда слезы.
Гоголь начал с творений мрачно-возвышенных, с подражаний немецким романтикам и Жуковскому. Эти творения, как он признавался, были все «в серьезном роде». Но затем смех как бы сбросил со слова Гоголя тяжелый покров. Явилась веселость, явилась радость, против готического собора вырос «вертеп».
Гоголь — дитя книжной культуры и дитя народного юмора, смеховой культуры народа, как сказал бы М. Бахтин. Восемнадцатый век со вспышками одического величия, со слогом Державина и школа Шиллера и Г офмана чувствуются в Г оголе. Полет книжной речи мешается в его прозе с грубой шуткой простолюдина, с лукавством украинского «дядьки», с «раем» и «адом» народного представления, где человек и черт выступают как герои одной пьесы.
Черт у Гоголя смешон, а человек бывает и страшен. У человека могут внезапно выскочить клыки, как у колдуна из «Страшной мести», а черт может быть подвергнут порке, как напроказивший мальчишка.
Черта можно пороть, на черте можно ездить верхом, черта можно дурачить — человек во сне видит такую правду о себе, о которой он не смеет и думать при свете дня.
Смех Гоголя универсален — он охватывает все проявления человеческой души, начиная от низких и кончая высокими: низкое и высокое не противостоят друг другу, а переливаются одно в другое, создавая тот отсвет алмаза, в глубине которого всегда остается тайна.
Гоголя числят в сатириках, комиках. Он считал себя поэтом. Он добивался того, чтоб сказать все о человеке, тронуть его со всех сторон, как хотел он показать со всех сторон Россию, а может быть, и весь мир. Уроки Гоголя — уроки святой максимы, святого завышения целей, которые ставят перед собой гении и неосуществление которых заставляет их роптать на себя.
Мы часто спрашиваем себя, отчего гении недовольны собою, отчего они пересматривают свои взгляды, влекутся к новым, страдают от этого, уходят в потемки, а то и совсем уходят, не найдя в себе сил разрешить мучающий их вопрос. Блуждания гения — блуждания жажды совершенства, блуждания на пути к идеалу, который они с небес хотят низвести на землю. Святые попытки гения — явить этот идеал во плоти.
Жизнь Г оголя полна этих минут неудовольствия, досады на себя, самоосуждения. Признавая искусство «первым» в своей жизни, а все прочес «вторым», он готов был и его оставить ради того, чтоб хотя бы что-нибудь изменить в своем отечестве. Он не раз говорил, что не может писать «мимо себя». Строюсь я, добавлял он, строится и сочинение, нейду Я, стоит и оно. Это черта чисто русская, черта русской литературы, которая более, чем какая-либо из литератур, связывала слово с делом, не отделяла слова от дела и рассматривала голос свой как деяние, как влияние, как участие.
«Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Все это отдает пророчеством, витийством. Но русская литература — пророческая литература. В ней история «горит», книги ее пишутся огненными словами — не мастер, не ремесленник русский писатель, а вития, невольник чести, невольник совести. Одно ремесло, одна техника для русского писателя еще не творчество. В высшие цели совершенствования входят не только отделка и переделка, невидимые слезы над листом бумаги, противоборство со словом и укрощение его, но и страдание по поводу чужого страдания, забвенье искусства во имя отклика на чью-то боль.