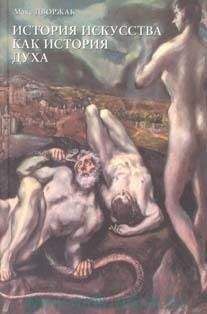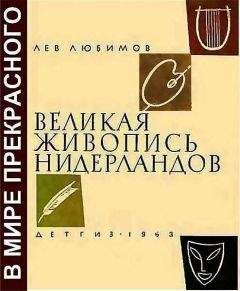Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
В этот момент холостяк, вовлеченный в двойной парадокс создания живописными средствами че-го-то такого, что было бы начисто лишено внешних черт живописи («Большое стекло»), и радикального отказа от живописи при условии сохранения за собой имени живописца (реди-мейды), является еще стыдливым художником. Он сам тайком «растирает свой шоколад». Его онтология сохраняет эссенциалист-ские черты, она еще не готова к скачку в регистр речествования. Скачок произойдет очень скоро, в другой заметке, включенной в «Белую коробку»: она начинается с изложения своего рода ретроактивной программы — вернуться к забытому —и почти наверняка относится к 1914 году, как и две заметки о ном№ нализме: «Найти записи о цветах, понимаемых как окрашивающие источники света, а не как различия, возникающие в однородном свете (солнечном, искусственном и т.д.).—Поразмыслить вокруг следующего: Допустим, что несколько цветов — световых источников (этого рода) — использованы одновременно; оптическое отношение между этими различными окрашивающими источниками будет иного порядка, нежели сопоставление красного и синего пятен в солнечном свете. Налицо некая аноптичностъ, некое холодное рассмотрение, окрашивающий эффект заметен лишь воображаемому зрению при таком использовании. (Цвета, о которых говорят.) Это немного похоже на переход от причастия настоящего времени к прошедшему»39.
Едва ли возможно лучше, чем сделал это сам Дюшан, засвидетельствовать запись символического, воспринимаемое с холодком отклонение воображаемого и подразумеваемый этим переход. Это уже не тот переход, что имел место в Мюнхене,—от подразумеваемого к явному, от действующей метонимии к непризнанной метафоре; вернее, это тот же переход, но еще и сознательный, в том числе и в отношении своего временного режима: переход от причастия настоящего времени к прошедшему. Он удостоверяет и фиксирует «отказ» от живописи и установление живописного номинализма. Комментируя в 1965 году фразу «цвета, о которых говорят», Дюшан ясно понимает, что огласил в ней различие — или даже скачок в символическое — каковые составляют метафорическую сущность живописи: «Я имею в виду различие между разговором о красном и созерцанием красного»40.
Круг замкнулся. Мы проследили огромное и крошечное расстояние, разделяющее две практики и две теории цвета — Кандинского и Дюшана, «этих странных существ, что зовутся цветами» и «цвета, о которых говорят». В этом деле нельзя было обойтись без чтения текстов. Все они созданы позже мюнхенского откровения. Заметка о выращивании пыли относится к году, когда оно было осуществлено, — к 1920-му; заметки о языке написаны в Нью-Йорке между 1915 и 1918 годами, вероятно, ближе к последнему, в период сложения замысла «Tu ш’»; заметки о цветах, фоне, веществах и врожденности следовали одна за другой между началом 1913 года, когда Дюшан еще размышлял о реализации «Новобрачной» на холсте, и февралем 1914-го, датой «Дробилки для шоколада, №2». Наконец, две заметки о номинализме, живописном и буквенном, точно датированы тем же 1914 годом.
В этом году был создан и первый безусловный реди-мейд—«Еж», или «Сушилка для бутылок». В нем, не колеблясь, следует усмотреть первое приложение живописного номинализма. Известно, что «Сушилка» имела надпись на одной из внутренних окружностей, ныне утраченную вместе с оригинальным объектом. И эта надпись имела для Дюшана символическую функцию прибавочного цвета, очевидно неразличимую при отсутствии кода41. Если название, имя объекта —это его дополнительный цвет, то именование в таком случае является актом живописи, а номинализм, принимающий цвет в буквальном смысле,—номинализмом живописным. Что и засвидетельствовал в 1914 году «Еж», первая реализация проекта надписанных объектов. Но в предвосхищении номинализм содержался уже в «Обнаженной, спускающейся по лестнице», именно название которой оказалось, по воспоминаниям современников, неприемлемым для кубистов. Об этой картине Дюшан говорит Катарине Кью: в ней «уже предугадывалось использование слов в качестве прибавочного цвета или, скажем так, для увеличения числа цветов в произведении»42. Подобное название, хотя оно и кажется отсылающим к сюжету картины, не играет описательной роли, как это происходит вопреки всему в большинстве кубистских картин43. То, что Аполлинер говорит о кубистских названиях в статье 1912 года «О сюжете в живописи», куда точнее подходит к работам Дюшана: «Новые художники пишут картины, в которых нет настоящего сюжета. И названия, которые помещаются в каталогах, играют отныне роль имен, обозначающих людей, но не дающих им характеристики»78. Такое название, как, например, «Моя красавица» Пикассо, все-таки характеризует сюжет-референт, хотя и вне картины — речь идет о подружке художника Еве, о которой тот говорил Канвейлеру: «Я люблю ее и буду писать ее имя на своих картинах». «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» тоже отсылает к сюжету, но этот сюжет—не внешний референт, а сама картина, название которой, помещенное внизу холста, как этикетка, является именем. «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», как и «Моя красавица»,—не только «названия, которые помещаются в каталогах», так как они еще и «написаны на картинах». Однако Пикассо использует название как каллиграмму: если стереть его, изменится все пластическое пространство картины. Изъятие названия «Обнаженной» оставило бы композицию в неприкосновенности. Его введение относится не к живописному высказыванию, а к акту высказывания, номиналистскому акту, который прибавляет к живописному сюжету еще один, невидимый цвет. В «Дробилке для шоколада» этот невидимый цвет выходит из пространства картины и накладывается на ее поверхность, как самая настоящая, реальная этикетка. Как «коммерческая формула», она недвусмысленно именует отказ от живописи: цвет стал именем, а имя — цветом, со всеми последствиями (их нам еще предстоит обсудить) того, что холостяк бросил растирать свой шоколад. «Переход от девственницы к новобрачной», созданный между «Обнаженной» и «Дробилкой», с названием, написанным на картине, осуществляет переход еще в одном смысле, помимо названных выше. Он демонстрирует символическое вступление художника в область живописного номинализма, но еще не фиксирует его. Этот шаг будет сделан два года спустя с «Дробилкой» и «Ежом». А «Переход», располагаясь на полпути, говорит, что он делает, и делает, что говорит, а также показывает нам то, что в живописном номинализме продиктовано номинализмом буквенным. Эта картина написана, причем с любовью к живописному ремеслу, написана ремесленником, которого нельзя заподозрить в намерении отказаться от работы глаза и руки в пользу рассчитанного называния цвета и его имени. В то же время именно к мюнхенскому периоду относятся первые цветные схемы, аналогичные тем, которые позднее будут сопровождать работу над «Большим стеклом»79. Эти схемы представляют собой рабочий материал, вполне объяснимый, когда перед нами старательный, думающий художник, который вместе с тем не настолько виртуозно владеет живописью, чтобы писать «по наитию». Для Дюшана «обонятельная мастурбация» уже требует «литаний». Удивительно другое —что он сохранил эти схемы и увез их из Мюнхена с собой, хотя идея «Коробок» в это период еще не захватила его. Если имя, написанное на картине, уже тогда рассматривалось как прибавочный цвет, то цвета, записанные за пределами картины, наверняка имели целью добавить к ней свое имя.
Это имя — первое или последнее слово о цвете — «живопись». В Мюнхене, расставшись с кубизмом, на преодоление которого ушел год, Дюшан, подобно всем создателям нового языка, которые в самое ближайшее время заложат основы абстрактного пластического алфавита, начинает работать над условиями речи.
Кандинский, Делоне, Купка, Мондриан выходят из кубистского распада с уверенностью в том, что рождается новый, иероглифический язык и перед живописью открывается необычайное будущее. Живописец станет семиотиком грядущей культуры. А Дюшан наоборот, чувствует, что может отныне быть лишь номиналистом культуры в прошедшем времени. Создаваемый им алфавит он предназначает для «перевода постепенной деформации условного иероглифического феномена в его номинализацию, которая будет выражать только [мертвую] идею»44.
Реди-мейд и абстракция
ИМЕННО в Мюнхене Дюшан узнаёт цвет. Будем откровенны: особой привязанности к нему он в себе не находит. Если он испытывал ее, то раньше, когда открыл Матисса, и его палитра приобрела некоторое фовистическое богатство. Здесь, в Мюнхене, это богатство широко представлено в его немецкой версии: я имею в виду «Синий всадник», не повлиявший на Дюшана, но сменивший перед ним горизонты ожиданий.