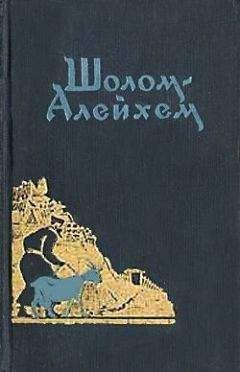Михаил Резин - Бегство талой воды
Директор:
Вы хотите знать мое мнение? Пожалуйста. Я, как администратор, не только не раскаиваюсь в принятом решении, но и считаю его возмутительно мягким. Не забывайте, мы имеем дело с детьми, нашим будущим. От того, как мы воспитаем, как образуем их, будет зависеть и наша с вами дальнейшая жизнь. Да, да, мне совсем не безразлично, как пойдут у нас дела, когда я буду на пенсии. Надо было сдать его психиатрам. Это в лучшем случае. А мы преспокойненько дали ему уйти по собственному желанию. Этот ублюдок - можете ему так и передать, я и в глаза скажу - смутил многие умы в нашей школе. Особенно юные, которые еще не способны анализировать, отличать добро от зла, правду от фальши. Вы все ждете, что я назову конкретные факты? Хорошо. В ноябре мне стало известно,- только не подумайте, что я это культивирую, ребята сами пришли и рассказали, у нас все-таки есть еще здоровые силы в обществе, есть актив, пионеры и комсомольцы, которые обладают трезвым взглядом и не дают впутывать себя в сомнительные истории,- так вот, в ноябре мне стало известно, что этот, с позволения сказать, педагог в подсобном помещении (там хранятся инструменты, готовая продукция ребят: тумбочки, табуретки, журнальные столики) мыл ноги ученикам. Да, да! И это во время урока. Мы тоже кое-что читали и знаем, откуда эти умывания. У меня буквально волосы встали дыбом. Первая моя реакция была такова: ребята пошутили, разыгрывают. Но они предложили мне самому сходить и удостовериться. Пошел и посмотрел. И что же? Идет урок, ребята пилят, строгают, режут, шпаклюют, а он в подсобке, среди валом наваленных до потолка табуреток, стоит на коленях, бормочет какую-то ахинею и моет ноги двоечнику Горлову. Лицо залито слезами, губы дрожат (не у Горлова, естественно), лоб в древесных опилках. "Вадим Иваныч, что это такое? что за цирк? Объясните!" Он даже не встал, не смутился и говорит: "Лев Наумович, я, конечно, скажу, зачем я это делаю, но вы ведь все равно не поймете". "Вы скажите, сделайте милость, а я уж как-нибудь напрягусь". "Хорошо... Я гордый человек, Лев Наумыч, очень гордый, Я - сын своего времени и своего деградирующего народа, своего обманутого народа. Я - плоть от плоти нашей педагогики, которая есть гордыня, помноженная на скудоумие. Мы, так называемые учителя, убили уже миллионы душ. Мы продолжаем убивать и калечить. И я решил положить этому конец. Кто-то должен сделать первый шаг к смирению. Настоящий учитель никогда ни перед кем не гордится... Долго рассказывать, как я пришел к такому выводу..." "Смирение, говорите? Вы отдаете отчет своим словам? Может, вы больны? Сходите в медпункт, пусть Вера посмотрит вас, смеряет температуру". "Спасибо за заботу, Лев Наумыч, я здоров". "Хорошо, тогда я с этой минуты отстраняю вас от работы и ставлю вопрос перед педсоветом. Сегодня же. Отчитаетесь перед коллективом и объясните свою линию поведения". Нет, я рад, что мы от него избавились. И в коллективе такое же мнение. Можете спросить. В целом у нас неплохой коллектив, много сильных и заслуженных преподавателей. Работа методической секции признана лучшей в городе. Есть и свои маяки. Хотите взглянуть на альбом?
Старик:
Все промахиваюсь мыслью, все не могу понять, что происходит со снегом, который выпадает на город зимой. Школьное объяснение - тает. О, эти школьные объяснения! Эти чумные бациллы, которыми в специальной пыточной, именуемой классом, заражают детей. В одно слово учебника учитель способен замуровать пространственно-временной зигзаг вселенной. Он разыгрывает из себя Творца, лицедей и обезьяна. Малышка, ты не пойдешь в школу, обещаю тебе. Надо очень не любить своих детей, чтобы отдавать их в школу. Я буду сам печь тебе пышки из сладкой пыли, что плавает в лесном солнечном луче. А пить ты будешь росу, что сбегает с лепестков в час тумана, утреннего солнца, и освобождения от ночи. Птицы обучат тебя пению, бабочки - движениям, белки и куницы - языку зверей, деревья и трава - языку растений. Ты постепенно поймешь письмена звезд и научишься обращаться к небу. И тебя никогда не будет мучить вопрос, куда уходит зимний снег из города. Я давно попался к ним на крючок. Я болтаюсь на тысяче нитей, которыми гнусные лилипуты привязали мой мозг к этому некрополю, к этому узилищу. Приходит зима, и я в стотысячный раз обманываюсь надеждой: может, на этот раз она остудит лихорадку, снимет иссушающий жар с его бескровных ланит. Мерзкий, он поднимает рыло и рычит в снежную темноту и пустоту. Первый снег обращается в грязь, в воинственную и наглую уличную грязь, что шепелявит и гоняется за колесами, цепляется за каблуки, вскакивает на портфели, сумки, подолы плащей и пальто. Но вот стеклянное копье мороза вонзается прямо в хлюпающую, влажную, цепкую, всепроникающую, жирную смазку. Щелчок невидимых пальцев, сдвиг природных первопричин - и под ногами камень. Тьма летающих, филигранно сработанных звезд плывет по воздуху, наслаивается, ткет сплошное и чистое. Вот плат и покров, одеяло и полотенце - утрись! Но только швея откинулась на спинку стула передохнуть, только перестала мелькать в ее пальцах игла, больной и порочный, перегорающий в похмелье и рабочем надрыве, ты снова выхаркнул забившие бронхи пепел и сажу. Дрожащей, неверной рукой, скрюченной пятерней своей ты сгреб брачную одежду, в который раз отвергая приглашение. Всякий раз по весне ты, город, неряха и люмпен, брезгливо сдвигаешь на обочины сугробы отвергнутых, отброшенных одеяний, отвергнутых и зараженных твоими выделениями. Сработанные из совершенных кристаллов, покровы эти гниют и чернеют. Ты, великий пачкун и осквернитель, надеялся смешать белизну и грязь, снег и свои испражнения. Так и было бы, будь зима вечной. Но ты, изворотливый, все бьешь мимо, все попадаешь не в такт. Чуть выше поднялось солнце, и тебе осталась грязь. Твоя грязь. Завернись в нее, плотную и блестящую, ядовитую и радиоактивную. Это тебе и на выход, и в могилу. Лови, расставляй руки Шивы, не упускай ручьи, в которые, сказочно ударившись оземь, перекинулись снега и покровы. Но где тебе, козлоногому! Я видел толстые решетки на окнах, что зияют среди асфальта ближе к тротуару. Туда устремляются весенние грязные воды. Они пройдут по твоим осклизлым вонючим кишкам и рано или поздно, процедившись сквозь травы, песок, камни, палую листву, подземные отстойники, очутятся в широких теплых водоемах, в игривых ручьях, откуда идет возгонка прямо в небо. Дай руку, хрупкая, придвинься. Наступает время прощания. Несчастные. Вам оставаться. Ущербные потомки Каина, вам оставаться, вам быть рабами его детища - города. Говорят, от тесноты курятника, от сжатости отведенного им пространства куры теряют покой, присущее им миролюбие, отыскивают слабейшую и заклевывают ее до смерти. И вы заклюете друг друга. Начнете со слабейших, а кончите тотальным людоедством. Став жертвами первого искушения, соблазнившись хлебами, вы не получите ничего. Это в лучшем случае. Вы оттянете подолы, ожидая манны, а туда упадут змеи. Вы заплачете, а ответом будет хохот.
Автор:
Этот эпизод произошел зимой. Кажется, в феврале. Снег валил с редкими перерывами. Город напоминал человека, которому на флюс наложили толстый ватный компресс. Вадим позвонил в дверь. Открыла мать. "Вадим! Вадим! - она схватила его за рукав пальто.- Снова плохо, да? Лица на тебе нет и красные пятна, сыпь. И рвет, наверное, опять, да? Вот вода, пей. И поди высморкайся, не нос, а хобот". Она потащила его на кухню, выдвинула из-под стола табурет. "Может, лучше молока? Сейчас согрею. И меда туда добавлю". "Не надо, мама, Люся не приходила?" "Люсю вызвали. Проверяет больных. Ну, рейд по больным, которые не закончили курс лечения и бросили, не стали лечиться. По самым окраинам города. Раньше одиннадцати, говорит, не жди". Она взяла его за руку. Они сидели за столом. Она положила его ладонь на свою и прикрыла сверху ладонью: красная мокрая пятерня меж двух карих скорлупок. "Может, нам уехать, Вадим, а? Хоть на время. На работе тебя отпустят. (Разговор происходил за несколько месяцев до увольнения Вадима.) И Люся не будет возражать. Она вся ушла в работу. Поедем в Крым, поживем, отойдем от суеты. Там в это время безлюдно. И все аллергии пройдут". Позвонили. Он вскочил: "Это Люся!" Когда у него не было насморка, он безошибочно определял, где и с кем была жена. От запахов начинали чесаться ладони и ступни. Хуже всего, когда начинали чесаться ступни, а надо было идти на работу. Тогда он передвигался подскоками, ломая шаг, выворачивая ногу в лодыжке. Теперь насморк избавил его от чесотки, но взамен невероятно обострился слух. Помогая жене снимать шубу, он слышал, как от ворсинок шубы и волос жены струится получасовой давности дым "Казбека". Этот тончайший звук был лишь эхом того звука, что издавали мужские губы, выпуская дым- пф-ф... "Видишь, Вадимушка, мне удалось отвертеться пораньше. Ты рад? Ох уж мне эти старухи окраин! Пока достучишься, пока разгонят собак... У тебя какие-то больные глаза. И нос распух. Сегодня не рвет? Сейчас полечу, потискаю. Есть хочу страшно, но на ночь не буду. На ночь - это преступление. В ванную! Ты приготовил мне ванную? Намерзлась! Мама, вы белье убрали? Вадимушка, ложись быстрее, согрей норку". У него горело лицо. Он смотрел на нее, на ее яркие губы, на глаза, густо подсиненные, и между произнесенных слов слышал отзвук непроизнесенных, живущих в глубине гортани, в последний момент зацепившихся за голосовые связки и неровности нёба. Это были недоноски мыслей, которые она сознательно умерщвляла: опять эти прыщи, паршивые волдыри! сизо-красная груша носа! в ней пригоршня соплей! и потные руки, потные холодные пальцы! лучше жабу пустить под лифчик, сколько можно притворяться, надо сказать, надо сказать... "Вадимушка, ну что ты стоишь столбом! В себя прийти не можешь от радости, что рано вернулась, да? Беги, беги, расправляй постель, я через пять минут..." Он вытащил из шифоньера свитер, лыжную куртку, теплые бриджи, вязаную шапочку, быстро оделся и открыл окно, чтобы не проходить мимо кухни, не объясняться с матерью. Отодвинув фикусы, встал на подоконник, а потом на пожарную лестницу. Он спрыгнул в сугроб. Мигал болтливыми окнами микрорайон, фонари гудели сварочным светом, дернулась и зазвенела струна провода, сбросив снежный канат. Свобода, эта гулящая девка, готова была пойти с ним куда угодно. Вадим шагал, подстраиваясь под легкую иноходь спутницы. Иногда он поднимал глаза и видел, что бодающие небо трубы выполняют двойную работу: выпускают питонов - пожирателей звезд, и незаметно, в краткие промежутки между выпыхами дыма, всасывают невидимую потенцию жизни, краски и образы сновидений, что питают детские души, тонко формируют сердца. Они всасывают потенцию жизни, а дети мечутся в кроватках, напрасно хватая иссохшими жабрами пустое пространство: там только кошмары да змеи, глотающие звезды.