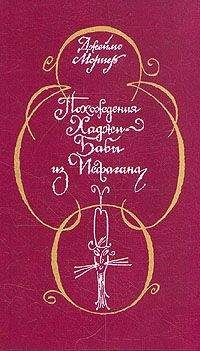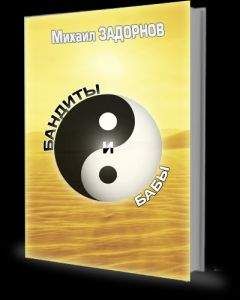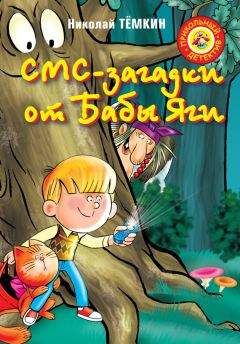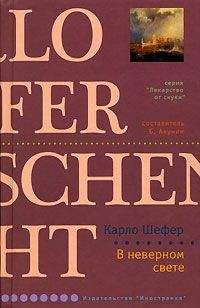Gurulev - Rosstan
– Может, и слышал, а что? – повернулся к писарю парень. – Голос тебе мой поглянулся? В церкви на клиросе петь зовешь?
– Обожди, вот покажем мы тебе клирос, тогда запоешь. Небо с овчинку увидишь. И про водку забудешь.
Федька ощерился, бросил бабки, взял писаря за пуговицу, сказал ласково:
– Мне что забывать. Вот ты, когда к Аграфене снова вечерком пойдешь, не забудь. Хорошая у тебя водка была тот раз.
Писарь дернул головой, будто его ударили по ядреным зубам.
– Не мели, чего не след.
– Может, напомнить?
Парни сгрудились вокруг, чувствуя возможность посмеяться.
– Давай, Федча, громи писаря.
– Это, значит, идет один казак, к плетням прижимается, чтоб его никто не видел. Потом подходит к одной избе, в ставень тихонечко так: тук-тук. «Это я, говорит, Груня, Иван Пешков». И фамилию назвал, чтоб, значит, с царем, Иваном Грозным, не спутали. Как-никак тезки они, Иваны Васильевичи.
Конопатое лицо Федьки светится улыбкой. Пешков рад бы уйти, но парень не отпускает его.
– Не, ты уж подожди. Дослушай, коли разговор пошел… Заходит, значит, казак, бутылочку на стол ставит. «Дымно у тебя, Груня, что-то. Накурено». Потом с обнимками, с целовками полез. Схватила баба мутовку и мутовкой его. Болит спина-то, дядя Ваня? Не-не, – замахал Федька руками, – это я так, к слову. Выскочил за дверь тот казак и бутылочку забыл на столе. Хар-рошая водка была. Выпил я ее, дядя Ваня, ты уж не сердись.
Парни хохотали, багровела шея у писаря, а Федька вдруг стал серьезным.
– Смотри, Иван Васильевич, – парень постучал в его грудь толстым пальцем с грязным ногтем, – придешь еще раз к Груньке, не узнаю я тебя впотьмах – поломать могу.
Пешков притих, сказал спокойно:
– Сатана ты рыжий, а не человек. Я старше тебя в два раза, а ты насмешки строишь. Злой у тебя язык.
– Мир, дядя Ваня, – Федька с силой хлопнул писаря по плечу. Иван Васильевич качнулся, скривил лицо.
– Однако тяжелая у тебя рука, паря. Я пошел. Но вы про попа частушки больше не пойте. Старики осердиться могут.
Северька Громов повыше Федьки будет. В плечах пошире. И поаккуратнее. Такие в гвардии стоят правофланговыми. Любил Громов петь. Горласто, так, что на другом конце поселка слышно. Пел он старинные казачьи песни; иногда вместе с Федькой, озоруя, выкрикивал частушки. Был Северька силен, но силой своей никогда не баловался, не хвастался.
Трудно вывести парня из себя, но можно. Как-то на вечерке старший сын Ямщикова Васька, подвыпив, начал куражиться. Васька лез целоваться к девкам и, когда те его оттолкнули, по-всякому обозвал их и стал приставать к парням.
– Кто на кулаках супротив меня устоит? Выходи на круг. Разрешу первому ударить. Только потом уж не обижаться. Хошь, Федька?
Рыжий не заставил себя упрашивать.
– Хочу. Только на улицу пойдем.
– Брось ты с ним связываться, – остановил друга Северька.
– А, боишься, – обрадовался Васька. – И почему это со мной связываться нельзя? Я дурак, по-твоему, да? Обожди у меня.
Васька вскоре вернулся еще более пьяным. Он хотел драться. Опытным взглядом Федька заметил, что правый карман штанов парня подозрительно оттянут. Там гирька на сыромятном ремешке или свинчатка.
Пьяный еще раз попытался привязаться к Северьяну, но тот только отмахивался, как от назойливой мухи, посмеивался. Окончательно обозлившись, Васька матерно обругал Северьку и, чуть пошатываясь, пошел в угол, где сидели девки. Он прищурился, словно прицелился, остановил взгляд на Усте Крюковой. Все знали, что Северька подолгу простаивает с Устей около крюковских ворот. Знал и Васька. Он шагнул к Усте, обхватил длинными руками, навалился грудью. Устя ударила кулаком в пахнувший ханьшином рот. Васька отшатнулся и, выкрикнув матерщину, полез снова. Прыгнул из своего угла Северька, рванул обидчика за ворот, смял, схватил в охапку, швырнул к двери. Парень, пролетев пол-избы, ударился о дверь; дверь распахнулась, и он вылетел в сени. Следом выскочил рыжий Федька и вскоре вернулся один.
Третий из друзей, Лука, или как его все зовут – Лучка – тоненький, гибкий. Большие серые глаза смотрят задумчиво и чуть грустно. Нос с маленькой горбинкой, нервные ноздри. Нет в нем лихой казачьей грубости, силы. Похож Лучка на поджарую хищную птицу. Считается он первейшим музыкантом. Гармонь ли, балалайка, скрипка ли, невесть откуда попавшая в поселок, издают в его руках удивительно ладные звуки.
Есть у Лучки маленький лохматый конек. Вид у конька никудышный, казаки, прессовавшие на заимке сено, откровенно потешались над ним. Как шутку восприняли они предложение Федьки пустить Пегашку с любым конем из сотни.
Сделка состоялась. Всем на заимке памятен этот случай.
Бега назначили за две недели до Рождества Христова. Парни собрали деньги, Федька увез в китайские бакалейки тарбаганьи шкурки, достал овса. Каждый день выводил Пегашку на прогулку. По совету Федоровны выводили ранним утром, боясь дурного глаза.
Год назад пускали Пегашку с бегунцом купца Пинигина. Как и положено, на Пегашке сидел худенький подросток в белой, заправленной в штаны куртке. На ногах у парнишки только вязаные чулки. На голове – платок. Когда развернули коней после третьего круга и крикнули: «Ну!», Пегашка сделал такой прыжок, что хоть и держался седок за гриву, а слетел через круп на землю. А бегунец, словно ничего не случилось, вытянувшись струной, летел к мете. С тех пор пускали его всегда без седока. Только узду заменили сшитым из фитиля недоуздком.
Смотреть на бега высыпала вся заимка. Иные приехали верхами, иные в кошевках, большинство – пешком, благо недалеко. Пестрая толпа колышется по обе стороны дороги. Мороз сдал, но воздух льдисто искрит. Плавают над головами легкие облака белого пара, розовеют лица. Степанка и Шурка шныряют среди толпы, прислушиваются, о чем говорят люди. В кругу баб рассказывают, что на прошлых бегах испортили дурным глазом коня старика Мунгалова.
– Летит эт-то бегунец, а на ем Прошка, внучонок Мунгалова. Уж с полверсты пробежал, глядит Прошка, а впереди бочка катится. Большая такая бочка. Он коня в сторону, чтоб обскакать, – и бочка в сторону. Он в другую, и она в другую. Бочка-то. И уж у самой меты пропала.
– Эй, народ, – кричит Проня Мурашев – на бегах он за старшего, – прошу порядок соблюдать, если не хотите, чтобы ваши посельщики проиграли!
Проню слушаются. Проня в поселке – человек уважаемый, десятский. За широкий, из синей далембы, кушак засунут черенок нагайки. А рука у него тяжелая.
Первыми приехали армейцы. Они привели статного рыжего жеребца. Со звездой во лбу, белоногий, с высоко поднятой головой, широко раздувающий розовые ноздри, он невольно вызывал восхищение. Когда привели невзрачного Пегашку, казачий жеребец показался еще более красивым. Лучкин конь вызывал у казаков откровенную насмешливую ухмылку. Они отпускали шуточки по поводу его косматых ног, хвоста, похожего на громадную метлу, длинной гривы. Конек стоял смирно и как будто дремал. Толпа смотрела на лохмача с жалостью, хоть и знала о его удивительной резвости.
– Какой из него бегунец, одни слезы!
– Скорей на барануху похож, чем на коня.
– По пьянке заспорили. Просадят последние деньги.
– Лучка-то вон какой скучный. На попятную бы, да поздно.
– А рыжему Федьке все хаханьки.
Коней повели на место забега. Белоногий нетерпеливо выплясывал, раздувая ноздри; лохмач шел за кошевой спокойно, равнодушно, словно на водопой.
Перед тем когда парни объявили, что пустят Пегашку без седока, вышла заминка.
– Не выйдет, – заупрямились армейцы. – Вашему коню будет легче бежать.
– Давайте и вы без седока, – равнодушно предложил Федька. – На равных условиях, значит.
– Н-но! А вдруг конь в другую сторону побежит. Или остановится.
– Видите, как мы рискуем, – Федька весь доброжелательство и простота.
Толпа в напряжении. Вот-вот из-за угла синей сопки покажутся две темные точки. Друзья стоят среди своих заимских, тихо переговариваются, курят. На другой стороне столпились армейцы.
А в это время в трех верстах от заимки старик Громов и чубатый казак разводили бегунцов. Повели на третий, последний, круг. Сердце у старика колотится в ребра. Пегашка словно проснулся, рвется из рук. Казак суров, но спокоен. Прилип к крупу рыжего жеребца седок. Последние шаги до черты бегунцы идут ухо в ухо.
– Ну! – крикнули разводные.
Брызнул из-под копыт лежалый снег. Пегашка сразу обходит своего соперника. Что-то дикое и вольное проснулось в маленькой лошадке. Трубой вытянут хвост, развевается грива. Рвет навстречу тугой ветер. Голова, шея, туловище и хвост в одной линии стелятся над дорогой. Ноги живут сами по себе. Они секут снег, едва поспевая за своим хозяином.
Толпа зашевелилась. Две черные точки, появившиеся на снежной белизне, вырастают, приближаясь. Осталось триста саженей. Сто! Все видят, что Пегашка впереди. Не выдержав, толпа закричала, засвистела. Полетели вверх шапки. Лохмач, пролетев мету, не сбавляя хода, понесся к заимке, к своей кормушке.